«… Т. Гартвиг. Частное ли дело религия?
Из журнала «Атеист» за 1926 год.
I. Религия, исповедание и церковь
Многие упрекают нас, свободомыслящих (такие упрёки слышатся нередко и из рабочей среды), в том, что, мол, мы ведём борьбу не только с церковью, но и с религией, что мы, мол, вместе с ванной выплёскиваем и ребёнка: «Пусть себе люди веруют, во что и как им угодно, была бы только низвергнута, т. е. выметена из политической жизни, церковь, этот оплот реакции. Долой церковь! Но религия, религия — это частное дело».
А между тем, разве церковь своим могуществом не обязана именно тем полчищам верующих, среди которых имеется на деле множество таких, которые веруют только наполовину, или даже на четверть, или даже таких, которые ныне являются уже мнимо верующими, которые только в метрических свидетельствах числятся верующими, разве не всем им обязана клерикальная статистика своим политическим значением? Разве могут свободомыслящие всех оттенков (а ведь среди них имеются и так называемые социалисты) всерьёз подумать, что нынешнее буржуазное государство бросает в жадную пропасть церкви многие миллионы ради одного своего удовольствия, что оно продолжало бы это дело, если бы церковь не в состоянии была выращивать миллионы чающих потустороннего блаженства, т. е. чуждых посюсторонней социальной борьбе, подданных? Разве могут эти свободомыслящие всерьёз поверить, что можно декретировать и действительно осуществить религиозную терпимость, продолжая иметь какие бы то ни было политические шашни с религией?
Эрфуртская программа когда-то вполне резонно говорила: «Мы требуем объявления или провозглашения религии частным делом, т. е. отделения церкви от государства. До тех пор, пока казённые деньги расходуются на церковные цели, до тех пор, пока государственные торжества сопровождаются богослужением, пока религиозные празднества справляются с обязательным присутствием на них представителей государственной власти, пока определённые исповедания пользуются оговорёнными в государственных законах привилегиями, — до тех пор религия не является ещё частным делом. Поэтому необходимо отделение церкви от государства, чтобы религия, наконец, стала частным делом». Отлично. Однако как прикажете осуществить это требование в обстановке буржуазной демократии против воли большинства, которое составляют верующие? Ведь с демократической точки зрения церковь совершенно права в своих претензиях до тех пор, пока она сохраняет за собой большинство. На это может существовать только один ответ: «Прочь от церкви!».
Надо страдать полным непониманием политического соотношения сил, чтобы думать, будто требование провозглашения религии частным делом может быть осуществлено в современном государстве без массового выхода из церкви. Буржуазное государство очень серьёзно считается с религиозностью масс, ибо религиозные люди легче поддаются управлению и эксплуатации, поэтому оно сознательно насаждает в своих школах религиозные «запросы» и «потребности», дабы укрепить и продлить свою власть. Ведь иначе как смогло бы меньшинство эксплуататоров подчинять себе огромное большинство эксплуатируемых? Уже Наполеону был известен этот секрет: «Религия — это узаконенное суеверие, которое охраняет богатых от истребления их бедными».
Одно только слово в этом изречении не совсем точно, а именно слово «религия». Конечно, всякая религия есть не что иное, как суеверие. (Великолепно сказал когда-то Герберт Спенсер: «Религия — это суеверие, которое является модным, суеверие — это религия, которая больше не в моде»). Однако «узаконенная» и приспособленная для целей господства религия является уже исповеданием. В области религии отдельные верующие, в сущности, так резко отличаются друг от друга, что можно совершенно спокойно утверждать: на свете столько религий, сколько верующих. В каждом религиозном сообществе мы можем обнаружить все виды сумасбродных и вздорных идей, когда бы то ни было круживших и дурманивших человеческие головы, от грубой веры в колдовство до возвышеннейшего экстаза, от глупого страха перед злыми духами до блаженного ощущения слиянности с природой. Что, например, общего между «христианством» молящихся венку из роз и шепчущих непонятные для них литании словацких крестьян и «христианством» какого-нибудь Ангела Силезия? Или что общего между «религией» правоверного польского иудея, который боится осквернить субботний отдых даже такой работой, как сморкание носа, и «религией» талмудического каббалиста, который в каждом маловразумительном слове библии пытается обнаружить некий затаённый смысл.
В исповедании, в этом «узаконенном», «систематизированном» суеверии, — все верующие оказываются объединёнными некоей общей платформой. Вот почему всякая церковь придаёт особенное значение тому, чтобы чётко сформулировать те догматы веры, которые обеспечивают её политическое влияние. Богобоязненность означает, собственно, не что иное, как страх перед государством: исповедание призвано препятствовать революции. Воспитывать в населении веру в авторитет, почтение к «богоугодному» общественному строю, — вот, собственно, политическая задача политиканствующей церкви. Религия является лишь предпосылкой исповедания, и знаменательным является то обстоятельство, что церковь, столь нетерпимая к неверующим и инаковёрным, весьма терпима к своим «овечкам»: пусть себе эти «овечки» веруют, как им угодно, лишь бы они остались верными церкви! Религия — частное дело, но исповедание, исповедание — это политика!
Теперь нетрудно понять, почему каждая церковь озабочена тем, чтобы овладеть человеком сейчас же после его рождения. Если бы церковь действительно была только обществом верующих, она вполне могла бы удовлетворяться тем, чтобы в каждом случае дожидаться того момента, когда ребёнок вырос бы и сам бы решил вопрос о своём исповедании. Но в том-то и дело, что церковь отнюдь не является невинным религиозным обществом. Это — политическая организация, которая служит интересам господствующего класса. Она из кожи лезет вон, чтобы заполучить в свои лапы побольше «овечек» (делая это интересах своего хозяина, государства, а значит, и в своих собственных интересах), причём она применяет форменный террор для того, чтобы сохранить за собой те души, которые она уловила путём метрикации. При этом она вполне резонно рассчитывает и на косность, на равнодушие масс, которые туго поддаются всякому нововведению.
Тут не могут не вмешаться пролетарские свободомыслящие. Религия как внутреннее настроение каждого отдельного человека является, конечно, частным делом, и таковым пусть себе и остаётся. Какая нам печаль от того, что какой-нибудь рабочий по привычке или недомыслию продолжает бояться несчастливого числа «13», от того, что какая-нибудь работница надеется усердной молитвой предотвратить какую-нибудь беду, но вот исповедание рабочего или работницы отнюдь не является частным делом с точки зрения социальной борьбы, ибо церковь ведёт ожесточённую борьбу с социализмом, борьбу явную и тайную, с кафедры и из исповедальни. Папа Лев XIII назвал социализм «смертельной заразой», а епископы сплошь да рядом грозят рабочим, выбирающим социалистов или входящим в социалистические организации, недопущением к причастию.
Например, в Эссене один поп потребовал на исповеди от одной женщины, чтобы она отказалась разделять ложе со своим мужем до тех пор, пока он не прекратит своей антиклерикальной пропаганды. Вспомним также последнее пастырское послание австрийских епископов, выпущенное ими к рождеству 1925 г.
Вот какие приёмы применяет церковь. Неужели после этого исповедание должно оставаться частным делом? Церковь служит оплотом реакции, церковь является союзником капитализма, церковь благословляла оружие в мировой братоубийственной бойне, церковь резко выступает против искусственного сокращения рождаемости, церкви нужны нищие и бедствующие массы, ибо нищета и бедствие располагают человека задумываться насчёт потустороннего блаженства.
Это знают все социалисты. И тем не менее, миллионы пролетариев продолжают оставаться членами церкви, и тем не менее, миллионы пролетариев продолжают посылать своих детей в религиозные школы, где из них воспитывают покорных рабов богоугодного капитализма, и тем не менее, отдельные социалисты продолжают метать гром и молнии против нас, злокозненных свободомыслящих, посягающих, мол, своей просветительной работой на «частное дело», на религию.
Мы, свободомыслящие, отлично понимаем, что рабочим партиям из тактических соображений приходится осторожно подходить к «священнейшим» чувствам тех своих членов, для которых социализм ещё не сделался их священнейшим убеждением. Мы не требуем также, чтобы партии вели антирелигиозную пропаганду. Однако именно потому, что скоро наступит время, когда для социалиста станет немыслимым быть одновременно членом враждебной социализму церкви, мы, свободомыслящие, обязаны вести сейчас свою просветительную работу, направленную на служение социализму. Пролетарское свободомыслие сознательно отдаёт себя на служение духовной освободительной борьбе пролетариата.
Конечно, и мы, свободомыслящие, избегаем неуклюжих прикосновений к «частному делу», к религии. Мы отлично знаем духовные корни человеческого суеверия, мы знаем, как живучи древние предрассудки, однако мы отвергаем религиозную ложь, мы вскрываем нелепость поповских выдумок, но особенно рьяно разоблачаем мы использование религии для политических целей. Пролетариат должен узнать, как бесстыдно господствующий класс при помощи церкви использует «священнейшие» чувства пролетариата для его духовного порабощения, это облегчает пролетариату возможность приобрести революционное классовое самосознание. Религия — это духовная немощь, несамостоятельность. Исповедание — это духовная порабощённость. Церковь — это духовная полиция капитализма. Путь к социализму ведёт через развалины церкви. Долой церковь!
II. «Частное дело» — религия
Религия является верою в надмирное в той или иной форме, а поэтому она по существу своему — чисто субъективное явление. Нельзя найти двух людей, которые были бы единодушны и согласны в своей вере, ибо представление, которое они выработали о непознаваемом, непостижимом «надмирном», зависит от их духовного состояния. Даже один и тот же человек может в процессе своего развития исповедовать разные религии, ибо в процессе этого развития меняется его духовный облик.
Будучи ребёнком, он рисует себе небо в сказочно-фантастических образах: милый боженька представляется чем-то вроде рождественского деда, ангелы и черти занимают выдающееся место в представлениях ребёнка о небе.
По мере того, как развивается эмоциональная жизнь ребёнка (в связи с пробуждением полового чувства), в его сознании начинают преобладать такие представления, которые носят чувствительный, сентиментальный характер. На этой ступени развития главную роль играет нежный образ спасителя, благостный лик богоматери и т. д. Этого сорта сентиментальная религия очень близка сердцу женщин, которые под влиянием своего материнского чувства остаются нередко в эмоциональном отношении на всю жизнь большими детьми.
В процессе своей трудовой жизни человек перерастает эмоциональную стадию своего развития: мышление начинает играть всё большую роль в его духовной жизни. Однако в тот момент, когда начинает говорить в человеке рассудок, хотя бы то был просто здравый смысл человеческий, вера отступает на задний план. История безбожия является, таким образом, по существу не чем иным, как историей человеческого рассудка. В той мере, в какой получают преобладание взвешивающий рассудок и вскрывающий причинную связь явлений разум, в такой же мере развивается и безбожие[1].
Этим объясняется также и то обстоятельство, что деизм и пантеизм никогда не смогли сделаться массовым движением: в них слишком много духовности. Народ любит чёткие и ясные формы мышления: красивенькие духовные пластыри ему не по вкусу. Для удовлетворения запросов своего воображения народ пользуется, наряду с романтикой, кино и лубочными книгами, грубейшими, но зато наглядными баснями и выдумками религии. Здесь кишит у него целый мир духов и демонов, здесь фигурируют восковые сердца, страшные заклинания, заговоры и всякая прочая чертовщина. Для удовлетворения запросов сердца наряду с прочими умилительными вещами нужны совершенно конкретные наглядные религиозные образы: синее небо с приклеенными к нему звёздами, с седобородым господом-богом, с толстощёкими, играющими на арфах ангелочками (нельзя обойтись и без заботливого дворецкого — Петра с ключом и в туфлях). Чувство жалости удовлетворяется образами распятого христа (большинство изображений которого является, по существу, подлинным «богохульством»), бесчисленных святых мучеников, утыканных стрелами, истерзанных и израненных. Не менее наглядными и конкретными являются образы смерти, дьявола, чистилища и ада.
Однако половинчатости народ не любит. Стоит ему перерасти эту стадию детского сознания, стоит проснуться его здравому смыслу, — как он энергичной чертой подводит итог своему духовному хозяйству и ставит крест на всех своих благоглупостях. Он отвергает не только седобородого господа-бога, но и всякого другого. Межеумочные, ублюдочные представления не пользуются у народа почётом. Он враг всяких отвлечённостей. Ещё христианские отцы церкви не знали, как им быть со святым духом. В конце концов, дело спасли тем, что отождествили его с образом голубя. Сына божьего, который существовал раньше всех времён и который, тем не менее, рождён Марией, такого сына божьего ещё можно было навязать народу, он, по крайней мере, умер на кресте по всем правилам, но такого бога, который стоит в стороне от мира, или такого бога, который даже мира не сотворил, такого бога уважать уже трудно. Стоит ли молиться такому богу, который не в силах изменить что-либо в законах природы?
Таким образом, мышление человеческое необходимо приводит к безбожию. Когда социалист узнаёт, что эксплуататоры сами не исповедуют никакой религии, а только проповедуют её, дабы пролетарская овца была более покладиста при стрижке; что капиталисты и попы жиреют в этом мире за счёт труда пролетариев, которым попы обещают блаженство в потустороннем мире, когда социалист узнаёт всё это, — он неизбежно ставит крест над верованиями своего детства и с полным сознанием своих классовых интересов ведёт борьбу против фирмы «Капитализм и клерикализм», которая умеет извлекать дивиденды из верований народа.
И, несмотря на это, кое-кто осмеливается ещё говорить, что религия — это «частное дело»? Клерикалы-то уже давно превратили религию в партийное дело. Какой великолепный ответ дала конференция австрийских епископов на все половинчатые формулы и недомолвки социал-демократического партейтага в Вене: «Христианский рабочий, ты не принадлежишь ни к соц.-демократии, ни к соц.-демократическому профсоюзу… Соц.-демократия — это гибель твоя и погибель всего общества. Не работай же сам для ускорения собственной гибели. Временные преимущества не могут вознаградить тебя за гибель души твоей. Решительный час близок. Пусть каждый сознаёт свою обязанность. Будьте начеку, прилагайте все свои усилия, чтобы укрепить свои ряды в собственных христианских организациях!».
Иначе говоря, христианская религия обязывает вступать в христианские профсоюзы. Вот что называется ясной постановкой целей и задач! А социалистические партии продолжают, между тем, нести околесицу о том, что религия, мол, является «частным делом»; ведь, кажется, не может быть никаких сомнений в том, что подлинный современник XX-го века может быть только безрелигиозным человеком. Как может быть рабочий истинным социалистом, если он в духовном отношении является ещё сыном средневековья?! Ведь именно безбожие и является самым отличительным признаком зрелости человека. Без преодоления религии, этого «червеобразного отростка» человеческого сознания, не может быть у рабочего революционного классового самосознания.
Глубокий смысл заложен в том шуточном стихотворении, которое когда-то Карл Маркс писал Бакунину в качестве посвящения: «Не станет лучше до тех пор, пока, несмотря на жандармов и святые таинства, последний царь не повиснет на кишке последнего попа»[2].
Это, разумеется, нужно понимать «духовно». В нас самих не должно больше быть почтения к попу и царю. Необходимо из сознания пролетариата вытравить всякие остатки монархических и религиозных чувств, всякие следы почтения к освящаемому таинствами и защищаемому жандармами буржуазному общественному строю. В этом-то и заключается существеннейшая наша задача, задача пролетарских свободомыслящих: вести борьбу с духовной реакцией в собственных социалистических рядах.
В борьбе с великолепно организованной религиозной коррупцией нам, естественно, приходится крайне осторожно обращаться с духовным «червеобразным отростком», который отличается большой чувствительностью. Нам не следует недооценивать силу религиозного предрассудка, иначе мы окажемся слабее церкви, которая выработала себе великолепное психологическое чутьё, которая применяет множество тонко подобранных и хорошо продуманных средств и приёмов. Начиная с маленьких иконок и образков, которые ребята приносят с собой из школы домой, и кончая пышными процессиями в праздник тела христова, рассчитанными на жажду зрелищ глазеющей толпы и тщеславие участников процессии, мы имеем перед собой тонкий аппарат, оказывающий сильное влияние на ум и чувство человека.
Особенно беспомощными оказываются перед лицом церковных ловцов душ женщины. Нам следует крайне терпеливо обращаться с ними и помнить, что женщины ныне находятся ещё в двойном рабстве (в производстве и в домашнем быту), что они поэтому вдвойне нуждаются в утешении. Женщины эти находятся в духовном родстве с теми бесправными рабами древнеримской империи, которые всю силу своего отчаяния вложили в грёзу о потустороннем блаженстве[3]. С теми женщинами, которые участвуют в производственном процессе, дело обстоит всё-таки лучше. Они знают, что социализм может стать действительностью лишь в том случае, если пролетариат не будет гнуть спины ни перед божественной, ни перед земной властью. В этом и заключается смысл известного изречения Карла Маркса о том, что пролетариату мужество ещё необходимее, чем хлеб.
Мы, пролетарские свободомыслящие, хотим и свои усилия приложить к тому, чтобы укрепить в пролетариате это мужество. Ни бог, ни чёрт — не должны нам мешать в осуществлении социализма. Пусть себе церковь грозит чистилищем, но если религия, это «частное дело», будет преодолена, то церкви не удастся внести расстройство в наши ряды своими шаманскими заклинаниями.
Таким образом, два аргумента выдвигаем мы, пролетарские свободомыслящие, доказывая необходимость просветительной и агитационной работы:
1. Религия в качестве духовного наследия давно минувшей, далеко превзойдённой эпохи препятствует развитию революционного классового самосознания, ибо предпосылкой этого самосознания является ясное и здоровое понимание хозяйственных и политических фактов.
2. Религия планомерно используется церковью для реакционных целей.
Первый наш боевой лозунг гласит: прочь из церкви! Он направлен к тем товарищам, которые давно уже не верят в бога, но которые по косности или недомыслию продолжают состоять в свите церкви, этого исконного врага социализма. Однако главная наша работа заключается в том, чтобы путём непрерывной пропаганды и просветительной деятельности воспитывать из отсталых рабочих современников XX-го столетия.
От пролетарских партий мы требуем одного — понимания наших стремлений и задач. Именно в этом смысле и составлен 14 пункт наших программных «направляющих линий»:
«Ввиду того, что пролетарское вольнодумческое движение отдаёт себя на служение пролетарской освободительной борьбе, мы требуем в интересах этой борьбы от каждой пролетарской партии поддержки в наших домогательствах и устремлениях. Каждая пролетарская партия обязана бороться за то, чтобы для государства религия была “частным делом”, однако для самой партии религия не может оставаться таким частным делом. Особенно от вождей и должностных лиц пролетарского движения необходимо требовать, чтобы они целиком и полностью стояли на почве марксизма, который непримирим ни с какой религиозной идеологией».
[1]Ср. Ф. Маутнер, «Атеизм и его история на Западе».
[2] Более известен вариант, приписываемый А. С. Пушкину:
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
Прим. редактора журнала «Апокриф», 2012 г.
[3]См. Гартвиг, «Иисус как Маркс».
Товарищи коммунисты, кто из вас готов передать текст этой статьи Геннадию Андреевичу? …»
via












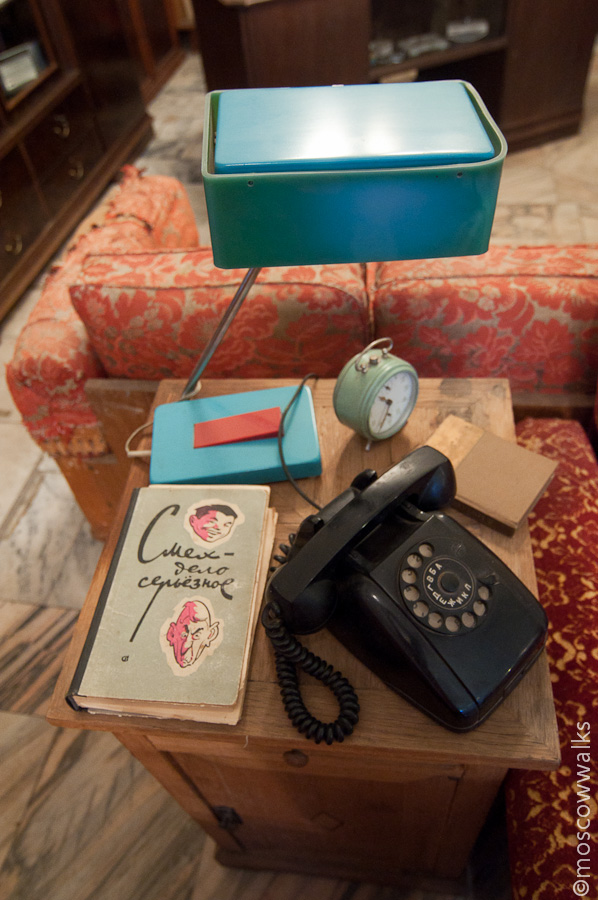












NOV_0407.jpg)
VSN_3191.jpg)


