04:49 am - ***У меня на жёстком диске есть две папки. Найдите отличие:E:\Мои закачки\Музыка\Kаzutoki Umezu 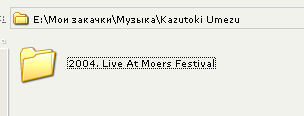 E:\Мои закачки\Музыка\Kazutoki Umezu 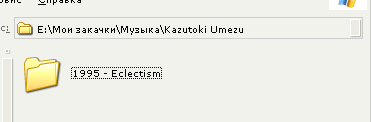 Я пока не нашёл и не пойму, как такое получилось. В самой папке /Музыка/, кстати, я вижу только вторую версию, возможно, пора купить очки. А вот диск, находящийся по первой ссылке — я теперь нашёл, он офигительный совершенно, джаз-проговый, вкуснешйший. Друг детей и Джона Зорна at his best. Если что, скачать можно тут (VBR ~236kbps, 109 MB). |
***
August 6th, 2008
05:22 am - Sex in JapanЧетырнадцатиминутный документальный фильм BBC, повествующий, что скромные, застегнутые на все пугвицы японцы на самом деле (ну надо же! а мы не знали!) вовсе даже люди сексуально-открытые, если не сказать агрессивные. И более того, Япония, возможно, "one of the most sexually liberated countries in the world". |
03:09 pm - об идеологиях и солженициных, размышляяВ ходе дискуссии с нашим калифорнийским резидентом![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo-lj.gif) tsurune@lj неожиданно разразился тирадой. Как обычно со мной бывает, по завершении раздумий и правок всё хочется стереть к ебеням, ибо как будто не то совсем, или то, но не совсем, или то, но не всё. Упорядочивать как-то мышление надо, упорядочивать. Но, кажется, там не только совсем неумно получилось, но и местами умно. Или, по крайней мере, занимательно. tsurune@lj неожиданно разразился тирадой. Как обычно со мной бывает, по завершении раздумий и правок всё хочется стереть к ебеням, ибо как будто не то совсем, или то, но не совсем, или то, но не всё. Упорядочивать как-то мышление надо, упорядочивать. Но, кажется, там не только совсем неумно получилось, но и местами умно. Или, по крайней мере, занимательно. Последний абзац, сквозная эшовская линия, таки будет оформлен в нормальный и полный текст, я думаю — кажется (но мне всегда так кажется), что и без того мысль простая и сама собою очевидная, но, видимо, не совсем, потому… потому доведу её до полной завершенности в свой черед. Хорошо, не идеология, а идея, в платоновском смысле. В западном мире так или иначе за красивыми словами есть понимание, что всё вокруг — своё, что это не колониальная земля, и взгляд в перспективу, и вполне прагматичная забота о том, что вокруг — выражающаяся по-всякому, но так или иначе некая преференция некоего абстрактного «интереса» над персональным. Не в ущерб последнему, нет, не в этом дело — просто это в ментальности как-то есть. Огрубляя, в цивилизованном мире — психология «кулака», рачительного, деятельного хозяина в русском мире — психология «бедняка», того самого, что жил в той же деревне, ничего не делал, а как пришёл Ленин — стал главной фактической опорой власти и производил раскулачивания. Это всё in their blood, так или иначе. То есть это всё не так, конечно, как и любое сравнение — очень за уши притянуто, но всё же. Здесь прослойка деятелей начинается, кажется, от сорока и ниже, я имею ввиду — широкий пласт деятелей — в поколении Путина искренних деятелей (в смысле, от «деять»), похоже, не так много. Вот и всё. Но опять: я вижу (да и хочу видеть) очень узкую прослойку людей, что здесь, что во всём мире. У Эшей жёсткий субъективный интеллектуальный ценз выявился на существующие явления. :)) Потому что если представлять, какого подовляющее большинство населения России, земли — да и просто представлять такую массу народу — свихнуться можно. А мы и так уже в своей маленькой уютной дурке. :) |
Powered by LJ.Rossia.org