[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]
Below are the 20 most recent journal entries recorded in
ivgnnm's LiveJournal:
| Friday, June 29th, 2012 | |
| 10:03 pm | Рынок золотых инвестиционных монет в России – история и перспективы 25.05.2012 ( Read more... )  Георгий Победоносец» выпускается с февраля 2006 года, имеет массу чистого золота 7,78 граммов (1/4 унции), диаметр – 22,6 миллиметра, толщину – 1,60 миллиметра и высшую пробу золота – 999ю. Первый тираж составил 150 000 штук, но по мере необходимости было принято решение их дочеканивать, что и было сделано в 2007 и 2008 годах тиражами 500 000 и 630 000 штук, соответственно. Всего на производство этих монет было израсходовано 8 947 кг чистого золота. Формирование отпускной цены ЦБ происходит следующим образом: ( (лондонский фикс в $ за тройскую унцию) * (курс доллара в рублях) / 4 ) + 7%, где 7% – наценка банка за изготовление монеты. Таким образом, цена самой популярной в России золотой инвестиционной монеты складывается из: - цены золота на международном рынке; - курса доллара к рублю (который существенно зависит от стоимости «черного золота», поэтому третьим пунктом можно было бы вписать «цены нефти»). Ниже, на графике, показана динамика цен на золотую монету с даты ее первого дня обращения до настоящего момента. Стоимость «Георгия Победоносца» выросла за 5,5 лет в 2,3 раза. Кроме того, отчетливо видно, как резко повышается цена в кризисные периоды. Так, с конца ноября 2008 года за 3 месяца стоимость монеты поднялась почти до 10 000 рублей с 5400, то есть на 83%. В настоящее время отпускная цена ЦБ России составляет 14 874 рубля, что больше на 32,5% значения 1 июля 2011 года.  http://goldenfront.ru/articles/view/ryn |
| Friday, June 22nd, 2012 | |
| 4:54 pm | |
| Wednesday, June 13th, 2012 | |
| 5:16 pm | Деятельность Банка России по управлению валютными активами с октября 2010 г. по сентябрь 2011 г.      http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=O http://www.cbr.ru/publ/Obzor/2012-01_re |
| Friday, June 8th, 2012 | |
| 12:44 am | Видео, «Американская мечта», происхождение ЦБ http://chern-molnija.livejournal.com/43 http://www.youtube.com/watch?feature=pl |
| Wednesday, May 16th, 2012 | |
| 12:57 am | Золото и бумага в резервах ЦБ  http://goldenfront.ru/articles/view/zol |
| Wednesday, May 9th, 2012 | |
| 12:18 am | |
| Monday, April 30th, 2012 | |
| 12:35 am | Государство, ЦБ, финансы, эмиссия http://aftershock-2.livejournal.com/149 http://ray-idaho.livejournal.com/12 |
| Wednesday, April 25th, 2012 | |
| 12:26 am | Книги об экономике и общественном устройстве Оригинал взят в Книги об экономике и общественном устройстве для френдов и не только 1. Мюррей Ротбард "Государство и деньги" маленькая и полезная книга. На английском 2. Людвиг фон Мизес "Человеческая деятельность" большая книга об экономике, обществе и государстве. тоже самое на сайте (HTML) на русском неполные версии не хватает некоторых параграфов. На английском На английском на сайте (HTML) 3. Хесус Уэрта де Сото "Деньги, Банковский кредит и экономические циклы". Рекомендую юристам начинать именно с нее. На английском 4. Хесус Уэрта де Сото "Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция" Автор раскритиковал социализм и продемонстрировал его никчемность. На английском 5. Марк Скоузен "Кто предсказал крах 1929 года?" Для фом неверующих и всех, кто отрицает австрийскую школу. 6. Мюррей Ротбард - "Показания против Федерального резерва" - прекрасная работа Ротбарда, показавшая истинную сущность ФРС и других центральных банков. Основная их цель - картелизация/монополизация экономики и искажение стоимости валюты. |
| Monday, March 26th, 2012 | |
| 2:03 am | Вера Смит. Происхождение центральных банков. Развитие централизованной банковской системы в Англии Происхождение центральных банков -- A. Wilson-Smith, 1936 Впервые опубликовано издательством Р. S. King & Son Ltd., Westminster, England в 1936 г. http://www.finansy.ru/book/bank/001vsmit/0 |
| Sunday, March 25th, 2012 | |
| 12:38 am | |
| Saturday, March 24th, 2012 | |
| 4:21 am | «Либеральные реформаторы» и их оппоненты Оригинал взят в «Либеральные реформаторы» и их оппоненты Среди документов, недавно появившихся в рубрике "Архив Егора Гайдара" на сайте Фонда Гайдара, есть и такая "сцепка" 22 ноября 1991 г. министр топлива и энергетики В.Лопухин обратился в правительство РСФСР к Е.Гайдару с предложением принять распоряжение правительства для поддержки (только не надо громко смеяться) нефтяной и газовой промышленности – из-за «снижения цен на нефть и газ на мировом рынке», «в условиях крупного недостатка финансовых ресурсов» (именно так, кстати, этот документ и назван в архиве Гайдара – «О крупном недостатке финансовых ресурсов у предприятий нефтяной газовой промышленности»). Детально комментировать добротный образец отраслевого лоббизма не буду – с ним можно ознакомиться по ссылке. Но не могу не обратить внимание на п. 3 проекта распоряжения: «Министерству экономики и финансов РСФСР совместно с Центральным банком РСФСР... определить потребность в дополнительных финансовых ресурсах для нужд капитального строительства объектов нефтяной и газовой промышленности в 1991 году, в том числе привлечение кредитных ресурсов для финансирования этих объектов. По вопросам, требующим решения правительства РСФСР, внести предложения». Публикаторы документа предусмотрительно не стали выкладывать на сайт «уголок» – указание адресата (очевидно, Гайдара), кому и что с полученным предложением делать. Но, судя по оборванному кусочку этого уголка, видному на первой странице сцепки, а также по имеющемуся ответу из Центрального банка от 24 декабря 1991 г. (направленному на имя Гайдара, следовательно, и запрос шел от него же), проект лоббистского распоряжения Минтопэнерго не был Гайдаром немедленно же выброшен в корзину, а вместо этого был разослан «заинтересованным министерствам и ведомствам», очевидно, с просьбой завизировать. Заслуживает также интереса ответ на запрос Е.Гайдара председателя Центрального банка Г.Матюхина: «...привлечение кредитных ресурсов для финансирования капитального строительства объектов нефтяной и газовой промышленности в 1991 году не представляется возможным. В связи с изложенным, считаем необходимым из п.3 настоящего распоряжения Правительства РСФСР исключить слова «Центральным банком РСФСР», а также «в том числе привлечение кредитных ресурсов для финансирования этих объектов». Как известно «либеральные реформаторы» и тогда обвиняли и сейчас продолжают обвинять Г.Матюхина в «полном непонимании рыночной экономики», а Е.Гайдару с пятой попытки все-таки удалось добиться увольнения в июне 1992 г. Г.Матюхина и назначения на пост руководителя Центробанка В.Геращенко. У которого, как известно, был и другой бэкграунд и другие, схожие с Е.Гайдаром, представления о том, кому Центробанк может и должен предоставлять кредитные ресурсы. |
| Saturday, March 3rd, 2012 | |
| 4:17 pm | Писания об экономике. Доверяй, но проверяй 02 марта 2012 года Уже почти 4 года центробанки многих стран занимаются "количественными смягчениями" - пытаются взбодрить стагнирущие экономики "свежими" деньгами. Банк Morgan Stanley рассказывает, зачем они это делают и чем это грозит  http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.a Feb. 2, 2012 In a new note, Spyros Andreopoulos at Morgan Stanley takes a big picture look at central bank balance sheets, and what he calls the "coming of age" of QE. Whereas at first, central banks use their balance sheets surgically -- e.g. unthawing specific markets -- it's not the dominant strategy for the Fed, the Bank of Japan, the Bank of England, and the ECB to expand their balance sheets broadly at any sign of trouble or deflation. It's now to the point where there collective balance sheets are nearing 36% of GDP.  http://www.businessinsider.com/char |
| Friday, March 2nd, 2012 | |
| 11:44 am | Всё о QE Уже почти 4 года центробанки многих стран занимаются "количественными смягчениями" - пытаются взбодрить стагнирущие экономики "свежими" деньгами. Банк Morgan Stanley рассказывает, зачем они это делают и чем это грозит ( Read more... )  http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.a На этом графике отношение балансов крупнейших ЦБ к номинальному ВВП развитых экономик (США, Еврозона, Англия, Япония). Для возможности сопоставления я перевел все данные в доллары.  Т.к. Банк Англии публикует данные только с мая 2006, то соответственно синий график только с 2006 года. Основной источник роста баланса для ФРС, Банка Англии и Банка Японии - это скупка гос.бондов. Для ЕЦБ доля покупок бондов не столь велика от общего баланса, но они придумали новое изобретение - LTRO - это тажа самая монетизация долга, но с обязательствами дилеров выкупать бонды под подачки ликвидности от ЕЦБ. Иными словами, чтобы избежать бюрократических барьеров, то теперь не ЕЦБ прямо скупает бонды, а ЕЦБ через счета первичных дилеров и прочей банковской своры. Но основная идея графика заключается в том, что раньше темпы роста номинального ВВП соотносились с темпами роста балансов ЦБ. Например, не смотря на то, что номинальный ВВП в период с 2002 по 2008 США и еврозоны очень сильно вырос, но соотношение колебалось в районе 8%. Теперь же они накачали систему ликвидностью столь зверским образом, что опередили рост экономики в 2.5 раза !! Так как мы рассматриваем самые крупные страны и ЦБ, то это очень много. При этом, если допустим, Банк Китая или ЦБ РФ наращивают баланс преимущественно за счет ЗВР (это нормально), то ФРС и компания путем монетизации долга (это не нормально). Если же пройдет LTRO, а к лету ФРС запустит QE3, то при стагнации экономики соотношение ВВП к балансам может достигнуть 30-33% для 4 стран и около 25% для США и еврозоны. Т.е. система под завязку забита ликвидностью и опасность заключается в том, что рано или поздно где-топ произойдет пробоина. Почему нет гипера? Да просто потому, что гипер возникает, когда деньги попадают в реальный сектор, вызывая смещение спроса и предложения. Сейчас трансляции денег ЦБ в экономику на прямую нет. Условно они перераспределяются через дефициты бюджета, демпфируя сокращения физического спроса в экономике, а часть идет в компенсаторный механизм на траектории сжатия кредитных и денежных мультипликаторов. Своего рода оборона ЦБ на фоне делевереджа в фин.секторе. Но если деньги лежат на счетах бангстеров и крутятся на рынках, то в худшем случае это порождает пузыри на фин.рынках, что в дальнейшем выливается в инфляцию издержек и стагфляцию в реальном секторе. Однако опасность заключается в том, что если в 2008 году инъекции ЦБ демпфировались сжатием теневой банковской системой, то сейчас темпы сжатия сократились, а накачка ликвидностью ускорилась. В прошлом посте показывал, что сейчас качают так, как в 2008 году в годовом выражении. Так вот, рано или поздно этот навес кэша где нибудь прорвет и это вне всяких сомнений будет БП, каких еще поискать. http://spydell.livejournal.com/420559.ht На чем растут рынки? Рынки растут на фоне беспрецедентной по своему масштабу, невероятной, правильнее даже сказать варварской попыткой накачать систему баблом. Балансы центральных банков: ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии с августа 2008 по 20-е числа февраля увеличили свои балансы в совокупности на 4.5 трлн баксов. За 2 года +2.1 трлн, за последний год + 1.56 трлн, за пол года (с августа 2011) + 675 млрд, причем пик накачки пришелся на июль-декабрь – там оформили 1.1.трлн в лучших традициях наиболее драматического эпизода кризиса 2008. Это беспредел выглядит следующий образом:  Сейчас под 9 трлн суммарный баланс. После того, как ФРС закончил свою программу QE2, то через 3 недели подключился ЕЦБ, а еще через 3 недели в работу вступил Банк Англии. Это означает, что по сути с сентября 2010 не было ни одного месяца, чтобы бангстеры сидели без бабла.  Им пихали по самые гланды так, что дальше просто не лезло. Активность: Сентябрь 2010 – июнь 2011 (ФРС); июль 2011 – декабрь 2011 (ЕЦБ); сентябрь 2011 – февраль 2012 (Банк Англии) и перманентно выступает Банк Японии.  ( Read more... ) Living In A QE World By James Bianco - January 27th, 2012  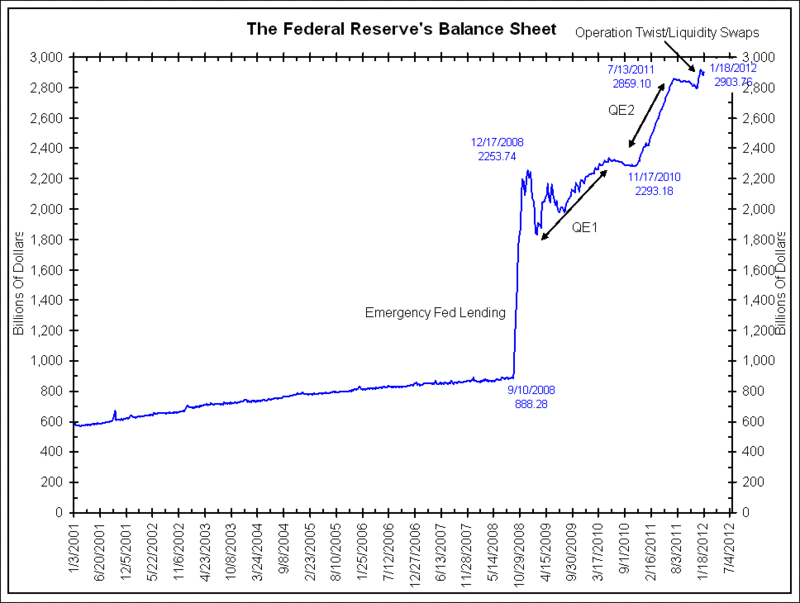          http://www.ritholtz.com/blog/2012/01/li |
| Thursday, November 10th, 2011 | |
| 12:58 pm | The S&P500, 10-Year Treasury Yields, Fed Funds Rate  http://www.businessinsider.com/char http://advisorperspectives.com/dshort/c |
| Wednesday, October 5th, 2011 | |
| 5:41 pm | Список сайтов центральных банков http://forex-trader.h16.ru/central_bank |
| Tuesday, September 27th, 2011 | |
| 12:10 pm | Текущее состояние экономики России Августовские данные по динамике промышленного производства не принесли хороших новостей. Хотя традиционный индикатор промышленного выпуска Росстата, измеряемый как август текущего года к августу прошлого года, указывает на промышленный рост в размере 6,2%, данные, которыми пользуемся мы в «Эксперте», а именно сезонно скорректированный индекс промышленного производства ГУ—ВШЭ, показали уверенный спад — 9,5% в годовом выражении. Конечно, можно скептически отнестись и к этим, столь негативным, данным (чуть ниже мы остановимся на причинах таких масштабных различий) и отнести их на несовершенство статистической обработки, однако смущают две вещи. Во-первых, отрицательные темпы роста производства держатся с февраля (см. график 1а).   Просто в течение всего первого полугодия они находились в диапазоне от –5 до –1% и имели тенденцию к увеличению, а вот августовские, от которых ждали перехода в положительную зону, вдруг резко упали. Во-вторых, из полутора десятков агрегированных отраслей, за которыми мы наблюдаем, практически все, за редким исключением строительных материалов, находятся в минусе. Например, сезонно скорректированные темпы роста химического производства в минусе с февраля 2011 года, темпы роста производства машин и оборудования болтаются то вниз, то вверх, но с негативным трендом, и, самое симптоматичное, индекс производства продуктов питания, наиболее четко отслеживающий общее «здоровье» хозяйства, в силу распространенности привычки питаться, тоже находится в минусе весь год и «клюнул» с –5 до –15% (в годовом выражении) как раз в августе (см. график 2).  Таким образом, нам трудно списать августовское падение индекса промышленного производства на неточность измерений и оценок, скорее, мы должны зафиксировать новую волну промышленного спада. И, как бы печально это ни звучало, динамика индекса до боли напоминает неприятный 2008 год (кстати, тогда официальная статистика тоже припозднилось, что позволило в разгар кризиса именовать Россию «тихой гаванью»). Сразу скажем, что сравнимого по масштабам падения производства и тем более ВВП ожидать не следует. ВВП, кстати, ведет себя лучше, чем промышленное производство: благодаря государственным инвестициям и кредитам активно растет строительство и сельскохозяйственное производство. Однако очевидно, что внешний фон настолько плох, что ближайшее будущее нашей экономики не частично, а полностью зависит от того, в какой мере промышленная и финансовая политика России будет переориентирована на внутренний спрос и на внутренние источники ликвидности.  Здесь черной линией отображен ряд реального индекса промышленного производства, а красной — сезонно скорректированный. Черная линия, как мы видим, сильно колеблется от месяца к месяцу из-за пресловутого сезонного и календарного (количество рабочих дней в месяце) факторов. Чтобы убрать его, Росстат и многие другие оперируют показателем «год к году». То есть если мы возьмем январь этого года, то реальный индекс промышленного производства составлял 147 единиц (за базу принят январь 2000 года). В прошлом январе он был равен 137 единицам. Годовой прирост составил 7,3%. В марте те же показатели соотносились как 159 к 152, прирост составил 4,6%. В июле — 153 единицы против 147, прирост 3,9%. Мы видим, что в измерениях «год к году» показатели прироста все время положительные, тогда как помесячная динамика (красная линия) индекса слегка падающая. Однако эта положительность по показателю «год к году» будет продолжаться ровно до того момента, пока мы не подойдем к месяцу, в котором год назад начался бурный рост индекса промышленного производства. Это произойдет в октябре или ноябре. Тогда, в 2010 году, ИПП начал резко расти, и если к этому моменту производство текущего года не ускорится (а сейчас ясно, что оно не ускорится), то официальная статистика «вдруг» зафиксирует спад, потому что индекс этого года останется примерно на том же уровне — 152 единицы, а индекс прошлого года выше — 156 единиц, и окажется, что промышленность падает. То есть, применяя методику «год к году», мы, пытаясь правильно определить тенденцию, зависим от того, насколько быстро в прошлом наступило изменение тренда от положительного к отрицательному и наоборот. И если в прошлом наблюдался резкий слом тренда, то до наступления соответствующего месяца мы не понимаем, где находимся. Аналитики так и говорят: «Осенью изменится эффект базы, и мы, может быть, увидим спад». Но зачем ждать, если грамотные методы сезонной корректировки дают возможность видеть реальную ситуацию уже сейчас, более того, видеть ее разворачивание во времени и иметь возможность готовить решения по купированию проблем? Противники сезонной корректировки высказывают еще такой аргумент, что хорошая сезонная корректировка возможна в стабильной экономике, когда из года в год все одно и то же. На это можно возразить, что нужна-то она как раз в нестабильной обстановке. Негативные следствия незнания истинного положения вещей мы как раз сейчас и испытываем. Имеется в виду борьба с инфляцией, развернутая с зимы 2011 года, уже после того, как реальная текущая инфляция давно миновала свой осенний пик (знаменитый эпизод с гречкой 2010 года) и решительно двинулась вниз. Однако незнание этого факта или его недостаточный учет привели к тому, что денежные власти так старательно боролись с уже и так убывающей инфляцией, что заодно «замочили» и все импульсы к росту промышленного производства. Именно поэтому мы встречаем европейские проблемы не в лучшей форме.  На графике 4 представлены темпы роста денежной массы (М2) с 2004 года. Как мы видим, до кризиса темпы роста денежного агрегата увеличивались и находились на уровне 35% в год. В кризис темпы роста стали отрицательными, однако затем, в 2009 и 2010 годах, в результате нашей «политики денежного смягчения» они поднялись до 25%. Этот уровень был комфортен для роста промышленности, но власти испугались осенней инфляции 2010 года и приступили к политике жесткого контроля за ликвидностью. В 2011 году средние темпы роста денежной массы опустились до 12% годовых, что было беспрецедентно низким уровнем. Эффектов от этого было три: снижение уровня инфляции до 3% к августу, исчезновение избыточной ликвидности коммерческих банков и обнуление роста платежеспособного спроса. Последнее мы можем зафиксировать, наблюдая за стагнацией денежных доходов населения (график 5) и розничной торговли (график 6). Падение выпуска пищевой промышленности, о чем мы говорили выше, тоже индикатор нерастущего платежеспособного спроса.   Нам возразят, что радикальное снижение инфляции — это выдающийся результат, он открывает перспективы для долгосрочного инвестирования. Мы позволим себе усомниться в этом. Инфляцию «передавили». 7–8% годовых, которые будут обсуждаться в конце года, — это нереальная инфляция, потому что в нашей неравновесной ситуации надо следить за ее помесячным измерением. А в течение года инфляция опустилась до 3% в августе, в некоторые недели она опускалась до 0%, продовольственные рынки вообще показывали дефляцию. Такие низкие скорости роста цен не оставляют простора для роста, именно поэтому во все времена дефляция считалась большим злом, чем инфляция. К этому стоит добавить, что во многих промежуточных секторах инфляция была подавлена административно, но периодически «прорывалась». Например, колоссально выросли издержки на перевозку и грузов, и пассажиров из-за огромного дефицита транспортных услуг. Фермеры говорят, что сегодня стоимость транспортировки овощей такова, что выгоднее закопать их обратно, чем везти на склады крупных сетей. А платежеспособный спрос не растет, и в результате конечные производители, особенно в секторе потребления домашних хозяйств, оказались зажаты в жесткие ножницы: увеличение издержек и падение цен. О каком росте в таких условиях можно говорить? Дополнительный и мощный удар по платежеспособному спросу нанесли и введенные в этом году увеличенные страховые взносы. Сначала казалось, что это не будет иметь значимого негативного эффекта, но он есть, и большой. По элементарным прикидкам, за счет введения страховых выплат за год с рынка было извлечено 1–1,3 трлн рублей, или 100 млрд рублей в месяц, — попав в круг пенсионной системы, они как минимум резко замедлили скорость своего оборота. Много это или мало? Логично сравнить эту сумму с объемом наличных денег в обращении, который составляет 4–5 трлн рублей в месяц. 100 млрд на первый взгляд небольшая сумма, однако в экономике важны не абсолютные величины, а приросты, и 100 млрд рублей примерно равны ежемесячным приростам наличных денег в обращении в 2011 году. То есть за счет увеличенных страховых отчислений мы вдвое уменьшили возможный рост платежеспособного спроса, а это много. Надо сказать, что мы сами недооценивали негативные эффекты этого фактора, однако с какой бы компанией из среднего сегмента (крупным сырьевым компаниям, возможно, это и неважно) мы сейчас ни говорили, все утверждают, что дополнительные страховые изъятия стали серьезным ударом по бизнесу, и это удар с двух сторон: изъяли ликвидность плюс сократили спрос.  ( Read more... )  Однако нам кажется крайне важной постановка новых целей для денежной политики. Именно она, определяющая совокупный платежеспособный спрос, является ключевой для экономического роста. Необходимо извлечь урок из опыта этого года и зафиксировать некий оптимальный коридор темпов роста денежной массы, не позволяя этим темпам сильно уходить вниз. Это, кстати, не новость для экономической мысли: Милтон Фридман утверждал, что для поддержания стабильного роста и избегания кризисов и при не вполне ясной картине зависимости роста и инфляции от денежной ликвидности лучше всего обеспечивать рост агрегата М2 на постоянном уровне. Фридман говорил о росте на уровне ожидаемого номинального прироста ВВП. Однако в России стоит учесть и низкую монетизацию ВВП (отношение М2 к ВВП), которая в 2010 году составляла всего 34% (по сравнению с западной нормой 60–80%). Исходя из этого мы можем определить нормальную скорость роста денежной массы как сумму ожидаемого роста реального ВВП (4–5%), инфляции (7–8%) и сложившейся в последние десять лет скорости увеличения монетизации (10–12%) (см. график 9). В итоге нормой темпов роста М2 в сегодняшней экономике России надо считать диапазон от 21 до 25% темпов роста денежной массы в год (кстати, именно на таком уровне мы благополучно выбрались из кризиса).  И еще один урок, который хотелось бы извлечь из опыта 2011 года. Нельзя недооценивать роль денежных доходов населения и потребления домашних хозяйств в обеспечении роста. Эти расходы не удается компенсировать инвестициями. В экономике должно быть и то и другое. За счет инерционности экономической системы текущие расходы являются обязательным условием ее будущего роста. В этом смысле безусловной ошибкой было увеличение социальных взносов, так как фактически эти взносы были изъяты из будущего роста зарплат и расходов домохозяйств и перенесены в Пенсионный фонд. Было бы неплохо (хотя это просто мечты) провести эксперимент по возвращению этих денег предприятиям (возвращению к платежам в 24% для всей экономики). Скорее всего, это оказало бы мощный оздоровительный эффект на внутренний потребительский рынок. А что касается компенсации этих денег Пенсионному фонду, то совершенно не ясно, почему нельзя подключить к этому государственно важному делу государственные банки и поручить им выкупить облигации Пенсионного фонда на необходимую сумму. Денег у госбанкиров так много, что сделать это им будет нетрудно. А для российской экономики это будет куда полезнее, чем покупка восточноевропейских банков. http://expert.ru/expert/2011/38/myi-pad К концу прошлой недели бивалютная корзина поднялась в цене — с начала августа — на четыре рубля, или примерно на 12%: темпы, невиданные с момента завершения «управляемой девальвации» 2008–2009 годов, когда с 10 ноября по конец января корзина подорожала к рублю на 32% (см. график 1).  Если учесть, что спрос на валюту повышается на фоне дефицита рублей и растущих объемов вброса ликвидности на рынок со стороны ЦБ и Минфина (только за прошлую неделю Минфин разместил в банках депозиты на 420 млрд рублей; впрочем, к беззалоговому рефинансированию Банк России пока не прибегал), то закрадывается опасение, что львиную долю полученных от денежных властей рублей банки конвертируют в валюту, стремясь отбить проценты и еще заработать чистую прибыль на росте курса. Однако пока мы не находимся в состоянии классической спекулятивной атаки на рубль по образцу событий трехлетней давности. Во всяком случае, поведение коротких ставок межбанковского кредитования в рублях сейчас куда спокойнее (см. график 2). К тому же пока не чувствуется ажиотажного спроса на валюту и валютные депозиты со стороны населения.  Что касается фундаментальных факторов, определяющих движение рубля (цена нефти и торговый баланс), то они до самого последнего времени выглядели не так плохо. Правда, нефть с мая медленно, но верно дешевеет, однако торговый баланс до сих пор слабел несущественно, поскольку импорт в долларовом выражении также сокращался (вероятно, под действием наблюдавшегося в тот же период снижения цен на продовольствие). До начала минувшей недели не было и значимого ухудшения баланса движения капитала. И даже упавшая в прошлый четверг до 105 долларов за баррель нефть пока не выходит за рамки общего тренда. До прошлой недели публиковавшиеся данные о движении резервов (с поправкой на изменение цен золота и динамику курса евро к доллару) не давали оснований утверждать, что регулятор противился ослаблению рубля более, чем обычно. Однако в последнюю неделю все поменялось, и совершенно очевидно, что рубль удерживают от значительной девальвации и раскрутки валютной паники большие — в пределах 2–7 млрд долларов в день — интервенции ЦБ. Это означает, что до половины ежедневного спроса на валюту со стороны банков может покрываться продажами ЦБ. Хотя внешне происходящее напоминает события осени 2008 года, все же есть основания смотреть на ближайшие перспективы развития конъюнктуры денежного и валютного рынков более оптимистично. Крах одного из крупнейших инвестбанков, Lehman Brothetrs, стал символом общих проблем в финансовой системе с тесно переплетенными взаимными обязательствами и совершенно неясными масштабами потерь. Теперь же, даже в случае дефолта по госдолгу Греции и повышения степени «токсичности» долговых обязательств такого крупного заемщика, как Италия, масштабы проблемы достаточно четко определены. Есть и другие существенные отличия от ситуации 2008 года. Тогда кризису предшествовал чистый приток капитала в Россию в больших объемах, даже уже в непосредственно предкризисном втором квартале он составил 40 млрд долларов — в основном это были займы, в том числе 22 млрд долларов в банковский сектор. Банки имели тогда отрицательный баланс с нерезидентами порядка 100 млрд долларов. Закредитованы на внешних рынках были и небанковские компании, причем и такие, которые имели доход исключительно в рублях (вроде ВАЗа или сотовых операторов), многие под залог акций, которые быстро обесценивались. Сейчас, к счастью, после кризиса прошло еще мало времени — заемная политика банков и корпораций сохранила определенную осторожность. Чистого притока капитала с середины прошлого года (когда в основном закончилась дедолларизация) не было, напротив, был его отток, что само по себе делает экономику значительно более устойчивой к кризису. http://expert.ru/expert/2011/38/kurs-ru |
| Monday, September 26th, 2011 | |
| 12:14 am | Из истории экономики Австралии Долг  http://uselectionatlas.org/FORUM/in  http://www.marketoracle.co.uk/Article44 http://yellowroad.wallstreetexaminer.co  http://topforeignstocks.com/2009/08/2 Reserve Bank of Australia Aspects of Australia’s Finances, 15 June 2010 http://www.rba.gov.au/speeches/2010/s Недвижимость  http://historysquared.com/2011/07/06/au Rescuing the Economy or the Bubble? October 19th, 2008 http://www.debtdeflation.com/blogs/2 A Motley Crew interview on Australian House Prices by Steve Keen on February 10th, 2011 http://www.debtdeflation.com/blogs/2 Competition is not a panacea in banking, November 30th, 2010 at 9:37 pm http://www.debtdeflation.com/blogs/2 Подробный анализ недвижимости в Австралии This Time Had Better Be Different: House Prices and the Banks Part 1 http://www.debtdeflation.com/blogs/2 This Time Had Better Be Different: House Prices and the Banks Part 2 http://www.debtdeflation.com/blogs/2 blog on Australia's private debt bubble http://www.debtdeflation.com/blogs |
| Friday, September 9th, 2011 | |
| 12:54 pm | |
| Wednesday, July 13th, 2011 | |
| 12:00 pm | thomsonreuters.com. Долговой кризис еврозоны в графике                            http://graphics.thomsonreuters.com/F/0 |
| Sunday, June 5th, 2011 | |
| 11:44 pm | Россия в посткризисную эпоху: обзор текущей ситуации и перспективы 02 июн 2011 Сергей Егишянц, Александр Потавин  Рис.1. Индексы промышленного производства и обрабатывающей промышленности, СКО. Источник: Росстат  Рис.2. Инвестиции в основной капитал, СКО. Источник: Росстат  Рис.3. Сельскохозяйственное производство. Источник: Росстат  Рис. 4. Транспортные грузоперевозки, десятичный логарифм. Источник: Росстат  Рис.5. Доллар-рубль. Источник: SmartTrade Инфляция, сфера услуг и уровень жизни Потому-то правящие махинаторы на всей планете рассматривают индексы цен, как основной объект для своих "инноваций". В нынешние времена в этой сфере актуальны пять главных их типов. Во-первых, плавающий характер корзины товаров и услуг, по которой высчитывается ценовой индекс – туда входят не товары, а их группы. Например, бифштекс – это не товар, а название группы, куда входит также гамбургер: если по итогам периода последний подорожал слабее первого, то выкидывается бифштекс и считается цена гамбургера; а если наоборот – бифштекс возвращает утраченные позиции. Обоснование – гипотеза "идеальной субституции": человек есть чистый потребитель, действующий сугубо рационально и пытающийся минимизировать расходы. Т.е. если, к примеру, в Испании подорожал хамон (сыровяленый свиной окорок), то испанец может сразу переключиться на беркширскую ветчину – но в реальности он этого не делает, а продолжает покупать именно любимый хамон, пусть выросший в цене; такое упрямство сводит с ума правящих монетаристов по всему миру – особенно в Европе. Таким образом, означенная гипотеза нереалистична – и только занижает инфляцию. Во-вторых, структура корзин. В США инфляция недооценивается из-за входящей в корзину CPI (индекс потребительских цен) аренды жилья – её стоимость падает вместе с ценой домов, приуменьшая общее инфляционное давление. Дело в том, что на практике непропорционально большая часть арендаторов живёт в экономически активных регионах, где есть хорошая работа; аренда там недёшева – но статистики-то усредняют ставки равномерно по всей стране, включая депрессивные регионы и мелкие городки, чем занижают итог. Кроме того, разные методики пользуют разные корзины – в США есть CPI (индекс потребительских цен) и PCE (цены потребительской корзины): вроде одно и то же – но корзины разные. Британцы издавна считали индекс розничных цен – но ЕС заставил их вычислять CPI по своей методике: по идее, итоги должны примерно совпасть – но реально первый выше второго в полтора раза. В России кроме потребительской инфляции (ИПЦ) есть фиксированный набор товаров и услуг (ФНТУ): за январь сего года первая выросла на 2.4% в месяц и 9.6% в год, а второй показатель взлетел на 4.1% и 13.2% соответственно; с января 2003 года средний темп годового роста ИПЦ равен 11.0%, а ФНТУ – 13.6%; как видим, разница существенна – а т.к. в дефляторы входит ИПЦ, они все и занижены.  Рис.6. Расхождение ИПЦ и ФНТУ с 2002 года. Источник: Росстат Третий тип мошенничества касается отдельных товаров внутри корзин – тут происходит криминальная подтасовка, когда нерепрезентативная выборка или прямые подлоги дают неверное значение цены на конкретный товар. Для России в последнее время явный пример – это хлеб: по подсчётам Росстата, он за 2010 год подорожал всего на 7.6% - хотя было вполне очевидно, что реальный темп роста цен куда выше. Особенно наглы такие махинации при вычислении прожиточного минимума – в чью корзину включаются несъедобные и вредные для здоровья, но дешёвые продукты; по товарам длительного пользования завышается срок жизни до износа – не секрет, что он изрядно упал за последние десятилетия, но применяются длительности ещё советского периода, ну и т.д. Далее, манипуляции охватывают процесс усреднения цен разных товаров внутри корзины. Казалось бы, это чисто математическая процедура – у всех групп есть веса: считаем средневзвешенную цену и всё – не тут-то было. Представьте себе для простоты, что в корзине всего два продукта – один подешевел на 20% в год, другой на столько же подорожал: ситуация реальна, к примеру, для августа-сентября, когда фрукты и овощи сезонно дешевеют, а коммунальные услуги у нас всегда дорожают на двузначные проценты в год. Пусть средний размер расходов на каждый из этих продуктов (а значит, и их вес в итоговой корзине) одинаков – тогда логично думать, что суммарная инфляция равна нулю, т.е. среднему значению между +20% и –20%, взятым с одинаковыми весами: но статистики сообщат, что имеет место дефляция на 2% с лишним. Как такое возможно? – очень просто: они считают средневзвешенное не арифметическое, а геометрическое – в данном случае, квадратный корень из произведения 1.2 и 0.8; и выходит чуть меньше 0.98 – вот и минус 2% вместо законного нуля. Тут бывают и другие мелкие пакости, но в целом всё и так понятно. Последняя махинация называется "гедонистические индексы" – с середины 1990-х в цены закладывается растущее "наслаждение" потребителя от современных товаров. В США такой подход охватывает компьютеры, аудио- и видео-, стиральные машины, холодильники, одежду и даже школьные учебники. Если цены за год выросли на 7%, но товар стал приносить потребителю на 2.5-3.0% больше наслаждения, то показывается инфляция в 4.2%. Но расчёт цен не может включать качественные оценки – даже безотносительно субъективности: то, что новый ноутбук на 25% производительнее старого, ничего не даёт – нельзя же купить 0.8 ноутбука! Покупаем целый агрегат – и платим за него запрошенную сумму, а не "гедонистически уменьшенную". Для оценки инфляции надо вычислить динамику реально уплаченных за товары денег – если же вместо этого заниматься "гедонистическими" изысками, то выйдет невесть что. Так, если, по мнению статистиков, новые куртки приносят на 10% больше наслаждения, чем старые, то при их удорожании на 3% будет показано удешевление на 7% - но ваш кошелёк его не увидит, ведь никто не умеет вводить гедонистические проценты и платить гедонистические зарплаты. Такой подход совсем абсурден при расчёте ВВП – коль скоро нельзя купить 0.91 куртки (новая-то куртка на 10% доставит больше удовольствия!), покупаем целую куртку, как и раньше: ничего не изменилось – но статистика покажет, будто между покупками случился рост "курточного ВВП" на 10%. Особенно явно игрища с инфляцией отражаются на показателях сферы услуг и индикаторах уровня жизни. Поэтому мы сомневаемся в реальности роста розничных продаж в первом квартале на 4.7% к тому же периоду 2010 года – замените официальный ИПЦ хотя бы на ФНТУ (более адекватный, но тоже заниженный), и сразу темп ужмётся до 1.4%. То же касается платных услуг: связь растёт непрерывно (а как это проверить?), в начале года заметную прибавку показали жилищные услуги – хотя взлёта капитальных ремонтов что-то не заметно; выросли коммунальные услуги – но последняя зима была теплее прошлой, так что увеличение тут весьма странно. Скорее всего, речь идёт о недооценке дефляторов: за последний год цена жилищно-коммунальных услуг (отопление, водоотведение, водоснабжение горячее и холодное, содержание и ремонт жилья) лично у нас выросла на 42%, а электроэнергии – на 31%; меж тем, Росстат утверждает, что в этой сфере прибавка составила 7-18%; разумеется, частный пример – не статистика, но вопиющий контраст наводит на размышления. Так же вопиёт и контраст даже официальных чисел инфляции с 2000 года по сию пору: ИПЦ вырос в 4 раза, услуги ЖКХ – в 18 раз, а реально – ещё больше. Несколько странна также изрядная разница цен потребителей (CPI) и производителей (PPI): первые в январе-апреле давали годовую прибавку в 9.5-9.6%, а вторые – 20-21%. Но даже при хронической недооценке инфляции реальные зарплаты и душевые доходы ушли в минус с годовой динамике – если же цены считать корректно, то в марте падение тут составит весьма внушительные 3-7% в год. Итак, инфляция съедает даже те немногие достижения в сфере уровня жизни, которыми могли бы похвастаться российские власти. ВВП и финансовая политика Обычно интегральную картину происходящего в экономике принято характеризовать показателем ВВП – строго говоря, это неверно, но в первом приближении нам это подойдет. Здесь творится нечто странное: в сентябре прошлого года Росстат пересмотрел номиналы (в рублях по текущим ценам) ВВП с 2002 года – мол, структура промышленности изменилась, надо уточнить; в реальности за 2002-2008 годы все данные понижены, но слабо (не более, чем на 0.3%), зато за 2009 год число повышено сразу на 1.0% - видимо, для того всё и затеяно. Но вскоре оказалось, что то был лишь старт большого пути: в начале сего года статистики втихую поменяли значения последних трёх лет, отняв от 2009 года 0.8% из только что добавленных 1.0% - да и 2008 год опустили на 0.4%. А в апреле последовала уже третья ревизия – причём радикальная: в 2009 году первый квартал опустили на 1.1%, а остальные – на 0.8% каждый; в 2010 году первая четверть сокращена на 2.9%, а вторая – на 2.2%; третья повышена на 0.8%, а четвёртая – аж на 3.6%. Казалось бы, столь серьёзные уточнения должны вызвать заметные изменения в показателях динамики ВВП за каждый квартал – ничуть не бывало: всё осталось по-прежнему – и это похоже на какой-то нелепый фарс. Мы пытались оценивать ВВП самостоятельно – и исходя из отраслевых показателей Росстата, и по номинальным числам, но со своими прикидками дефлятора. Оба метода приблизительны, ибо основаны на перманентно пересматриваемых официальных числах – но в целом результаты похожи на правду: по итогам 2009 года зафиксирован спад на 9-11%, а в 2010 – рост на 1.5-2.5%; официоз даёт за те же годы –7.8% и +4.0%. Сложнее оценить январь-март сего года, поскольку Росстат, МЭР и Минфин дают три разных номинальных значения с расхождением более чем в 3% друг от друга! Наши оценки видят всё же приращение в 1.5-2.0% к тому же периоду прошлого года. Однако официальные ресурсы утверждают, что прибавка составила не то 4.5% (МЭР), не то 4.1% (Росстат): основное расхождение – в дефляторе, который явно недооценивается. К тому же у Росстата есть "статистическое расхождение" – разница оценок ВВП, полученных методами потока доходов и потока издержек: оно в последние годы росло, составляя –1.4% ВВП в 2008 году, –2.2% в 2009 и, наконец –2.6% в 2010 (минус означает, что доход каждый раз оказывался ниже расходов). Т.е. лишь в прошлом году добрый триллион рублей якобы сделанных продаж где-то потерялся, а где именно, можно только гадать: так, в статистике платёжного баланса Банка России есть сумма выведенных денег по фиктивным контрактам – и, о чудо! она очень близка к "расхождению" Росстата, который, видимо, учёл липовые продажи как реальные. Но и это ещё не всё. Чтобы рассудить, наша или казённая оценка ближе к истине, сопоставим динамику ВВП и грузооборота транспорта – он является отличным индикатором производственной сферы и той части сферы услуг, где прибавка выпуска порождает рост перевозок. В структуре добавленной стоимости 66-70% приходится на отрасли, выпуск в которых линейно связан с объёмом перевозок – это промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, строительство, транспорт и торговля; вопреки расхожему мнению, за последние 10 лет доля этих секторов в ВВП почти не менялась – так что и весь ВВП должен неплохо коррелировать с грузооборотом. Возможны колебания – например, если объём перевозок стабилен, но растёт среднее расстояние (увеличиваются поставки на экспорт по трубопроводам): так было во второй половине 1970-х, что дало опережающий рост грузооборота, но затем благодаря экспортной выручке потребительский сектор (особенно сферы услуг) расширился и компенсировал расхождение. До 1998 года ВВП и транспорт в целом синхронны и при росте, и при падении; но в 2000-е официальный ВВП вдруг улетел вверх от грузооборота – хотя, повторим, значимых структурных сдвигов не случилось. Наши поправки на дефлятор восстанавливают синхронность, так что гипотеза о хроническом занижении цен выглядит резонной. Масштаб искажения велик: в целом с 1998 по 2008 год ВВП вырос не на 94%, как настаивает Росстат, а лишь на 55-60%. Но тогда пик 2008 года был не выше, а ниже вершины 1990-го; сейчас мы по объёму ВВП находимся на уровнях первой половины 1980-х – или, если угодно, первой половины 1990-х, что то же самое.  Рис.7. ВВП и грузооборот транспорта. Источник: Росстат, ЦСУ СССР власти пользуют средства денежной политики – весьма бестолково: сейчас они стали "бороться с инфляцией" посредством монетарного ужесточения – хотя оно бесполезно. С осени прошлого года темп годовой прибавки денежной базы и широкой массы (агрегат М2) стал замедляться и дошёл уже до минимума с декабря 2009 года – судя по графикам, это породит замедление инфляции с задержкой примерно в год. Стало быть, монетарные факторы сами идут на спад – а все прочие (тарифы монополий и валютная выручка экспортёров) не затрагиваются повышением ставки, поэтому действия Банка России бессмысленны. Что, однако, не сказывается на заработке главного банкирастраны: декларация главы ЦБ РФ показывает, что в 2010 году он заработал 22.7 млн. рублей или (по среднему курсу 2010 года) свыше 750 тыс. долларов, на фоне которых господа Трише (доход вдвое меньше) и Бернанке (вчетверо) выглядят жалко. Видимо, после "лучшего в мире министра финансов" Кудрина скоро появится и лучший в мире центробанкир Игнатьев.  Рис.8. Годовая динамика денежной базы и ИПЦ. Источник: Банк России, Росстат Демография Рождаемость печальна издавна – нетто-коэффициент воспроизводства (число будущих матерей, рождённых одной нынешней) пал ниже единицы ещё в 1964 году; обвал голодных 1990-х лишь слегка отыгран в изобильные 2000-е. Но тут Россия хоть сравнима с развитыми странами, а вот смертность совсем плоха.  Рис.9. Нетто-коэффициент воспроизводства населения России. Источник: ООН, статистические органы Российской империи, СССР и РФ Согласно методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), причины смертности делят на естественные (заболевания: инфекционные и прочие) и внешние (убийства, самоубийства, отравления алкоголем, ДТП, утопления, пожары, производственные травмы и т. п.) Эти показатели немало говорят об обществе. Смертность от инфекций сигналит о базовом здравоохранении: эпидемиологии, санитарии, профилактике – о цивилизованности в этих сферах. Прочие заболевания суть следствия состояния окружающей среды, образа жизни, диагностики – более высоких сфер цивилизации. Наконец, смертность от внешних причин говорит о повадках народонаселения и качестве социума в целом. В России всё это имеет свою специфику – лучший показатель смертности был в кризисном 1998 году и соседнем с ним 1997, а достижения последних лет не дотянулись до тогдашних уровней. Причина проста – по всем доступным данным (с 1965 года) смертность от естественных причин тесно связана с числом пожилых людей (мужчины старше 50, женщины старше 60) с задержкой в год; а от внешних – с количеством мужчин среднего возраста (40-44 года). У первой пары показателей коэффициент корреляции по 46-летней выборке 0.96; по второй он равен 0.79 – видимо, потому что до второй половины 1980-х мужчины среднего возраста принадлежали к приличным довоенным поколениям; но после 1985 года эту нишу заполнили люди послевоенных генераций более скверного качества – начиная отсюда, зависимость усиливается, и коэффициент корреляции достигает 0.88.  Рис.10. Смертность от внешних причин и доля мужчин 40-44 лет в населении (индексы). Источник: Росстат С пиков 2001/02 годов число мужчин 40-44 лет пало в 1.4 раза – и смертность от внешних причин снизилась в 1.6 раза. Так же максимум пожилых людей в 2002 году вызвал пик естественной смертности в 2003, а минимум 2006/07 – яму 2007/09. Численность поколений у нас сильно колеблется из-за катаклизмов первой половины XX века – вот и теперь число пожилых уже растёт, а после 2013 года будет всё больше средневозрастных мужчин; так что смертность вырастет опять. Поэтому не стоит обольщаться минимумами последних лет – да и в расчётах резоннее брать средние числа за 10-12 лет. Последний обзор ВОЗ странам мира даёт числа 2004 года – для нас они как раз около этих средних. Для удобства восприятия выделим Россию, а прочие страны сгруппируем в 20 регионов (в том числе один из бывших советских республик, кроме среднеазиатских и РФ) и выведем средневзвешенные показатели на 100 тыс. жителей каждой группы. Смертность от инфекционных заболеваний выглядит не так страшно – спасибо советской власти, страшных эпидемий нет: мы занимаем восьмое место, разделяя развитые и развивающиеся страны – от первых отставание в 1.9-3.5 раза, а вторые много хуже. Смертность от прочих заболеваний (основной компонент общей смертности) показывает, что бывший СССР во главе с Россией на последнем месте, отставание от всех (кроме самых нищих регионов Африки) безнадёжное. Смертность от внешних причин ужасна – мы не просто на последнем месте, но очень прочно: даже искажающие реальность числа последних лет позволили бы России едва обогнать лишь Центральную Африку; причём тут даже бывшие советские республики далеко впереди.  Рис.11. Смертность по видам и регионам мира. Источник: Всемирная организация здравоохранения  Рис.12. Заболеваемость по основным группам болезней. Источник: Росстат  Рис.13. Детская заболеваемость по основным группам болезней. Источник: Росстат  Рис.14. Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, %. Источник: Росстат  Рис.15. Отношение средней пенсии к средней зарплате, %. Источник: Росстат.  Рис.16. Измерители социального неравенства – децильный коэффициент и индекс Джини. Источник: Росстат.  Рис.17. Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием, без местных. Источник: Росстат  Рис.18. Наличие средств общественного транспорта. Источник: Росстат  Рис.21. Индекс недоступности жилья. Источник: Росстат, собственные оценки О финансовой политике мы уже написали, а о малом бизнесе просто приведём некоторые числа. В России в 2009 году было зарегистрировано 1.6 млн. малых и микропредприятий, т.е. примерно 11 предприятий на 1000 человек населения – и далеко не все из них реально работали. Во всех субъектах малого предпринимательства работает 11.2 млн. человек – около 15% рабочей силы; малый бизнес производит 10-15% ВВП России. Для сравнения: в США 74 малых предприятия на 1000 человек населения, в Италии – 68, в Великобритании – 46, во Франции – 35, в ЕС в целом – 45, в Японии – около 50. В малом бизнесе занято 80% рабочей силы Японии и свыше 50% в США и ЕС; в Штатах именно в малом бизнесе трудится около 40% специалистов в области высоких технологий и новейшего оборудования – в России такого нет и близко, зато есть (был?) национальный проект "Нанотехнологии", не менее успешный, чем "Доступное жильё". Наконец, доля малого бизнеса в ВВП в развитых странах уверенно превышает 50%, а в ЕС – даже 60%. Четверть малого бизнеса России приходится на Москву – а во всех крупных городах находится подавляющая часть этого сектора. А ведь важен бизнес не просто малый, а местный, ориентированный на внутренний спрос своего города – он создаёт каркас устойчивости общества в целом. И если с малым бизнесом в целом дела обстоят плохо (кстати, представьте, какой ценой даются его 10% ВВП, если дань "проверяющим органам" составляет половину этой величины по официальным оценкам МЭР 2008 года), то с местным никак – его не видно. Вывод Российская экономика в последние десятилетия в основном повторяет колебания глобальной сырьевой конъюнктуры: низкие цены на топливо и металлы в 1990-е годы породили спад, а их укрепление в 2000-е стимулировало рост. Зависимость от внешнего спроса заставила экономику России с осени 2008 года последовать за ведущими странами мира и завалиться – но масштабная эмиссия, проводимая в большинстве зарубежных экономических лидеров, к концу 2009 года выправила и нашу ситуацию. Тем не менее, основные показатели России уже неоднозначны, а реальный темп экономического роста весьма скромен – и даже в нём немалая часть приходится на госпрограммы стимулирования и бурный рост социальных трансфертов (в основном, пенсий). http://www.itinvest.ru/analytics/review |







