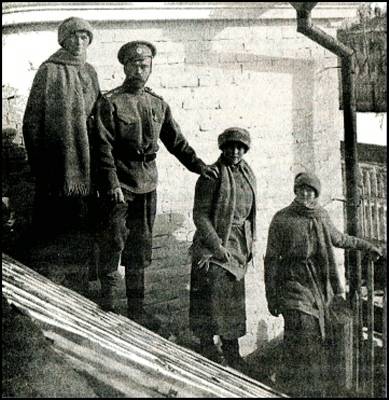Николай Второй: уроки истории 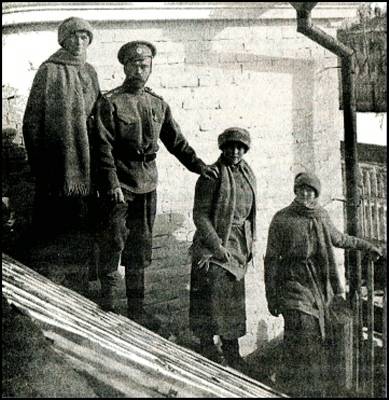
На
мой взгляд, дело вовсе не в том, насколько эффективным политиком был
последний российский император: сильным или слабым, умным или глупым. Я
лично думаю, что Николай Второй был неглуп и не так уж слаб как личность
(вспомним «столыпинские галстуки»). Дело в том, что изжила себя сама
имперская историческая парадигма. «Вилка» между изначальной
византистской идеологией и культурой европейского типа, инициированной
Петром Первым, стала критической именно при Николае Втором. Реформы
Петра Великого неизбежно должны были закончиться Февралем и, в идеале,
неимперской и демократической реорганизацией российского пространства.
Трагедия в том, что в силу недостаточной развитости русского европеизма,
неизбежным стал и Октябрь, восстановивший византистскую парадигму в
новом, большевистском качестве.
Драма
Николая Второго не в его личной слабости, а в объективно-исторической
раздвоенности его роли как политика. С одной стороны, подчиняясь
требованиям прогресса, он был вынужден проводить культурно-политическую и
технологическую модернизацию России, а с другой, не мог не видеть, что
модернизация противоречит самой сущности архаичной, полуазиатской
Империи, разрушает ее, как в случае со столыпинской реформой. Николай
так и не смог решить, что же ему делать: быть столпом реакции, новым
Иваном Грозным, как ему советовали охранители, или способствовать
мягкому переходу к постимперской, демократической, федералистской
истории, в которой царю оставалось бы лишь место конституционного
символа. Николай Второй застыл в роковой позе «на двух лодках» (да мало
того: еще и допустил чудовищную бойню 9-го января, когда его
верноподданных расстреливали и рубили шашками на столичных улицах). Ему
оставалось лишь свалиться в воду и утонуть, утянув с собой семью и
половину русского народа.
Вынужденный постоянно бороться с
враждебным ему государством, русский европеизм так и не успел достичь
политической зрелости. Именно поэтому в критическом 1917-м он не сумел
открыть страницу постимперской истории. Русский европеизм остался
слишком вымороченным, профессорским, слишком ненациональным. Он так и не
смог сформулировать русскую национал-демократическую альтернативу
византизму, развив идеи А.К. Толстого. В конечном счете, все кончилось
реакцией византизма новой, радикальной, большевистской генерации.
В
отличие от Николая, большевики не были отягощены петербургским
наследием и не страдали раздвоенностью. Они могли позволить себе быть
вполне азиатами, вполне деспотами. Главное, что их связывало с Петром –
это его методы. Если Петр при помощи дубины «возвращал» русских в Европу
(сохраняя при этом прежнюю ордынско-имперскую структуру), то большевики
тем же орудием вгоняли их обратно в Московию, в индустриальную Византию
Сталина.
Благодаря большевикам, Империя, хоть и с
территориальными потерями, дотянула до наших дней, когда все проблемы
столетней давности вновь заявили о себе с новой силой. Сегодня
существование Империи опять под вопросом. И, возможно, это окончательный
счет, предъявляемый историей «Рашке», что и заставляет наших
медио-медиумов вызывать дух последнего российского царя в надежде
сделать сию фигуру символом консолидации общества вокруг «вертикали
власти».
Наша трагедия в том, что Февраль 1917-го не обрел
русского национал-демократического, антиимперского содержания. Ни одна
из политических сил эпохи Революции, не считая «национал-сепаратистов»,
даже не пыталась выйти из российской исторической парадигмы – те же
большевики лишь расширили имперский мессианизм «Третьего Рима» до
планетарных масштабов «Третьего интернационала», это общеизвестно. Они
стали лишь более последовательными и крутыми имперцами и монархистами,
чем цари. Красные, говоря словами Розанова, «докрутили винт»
традиционной российской политической системы. Например, если при Николае
Втором русские крестьяне регулярно мерли от голода просто в силу
архаичного уклада сельского хозяйства, то большевики стали морить народ
специально, государственно, сделав из организованного голода инструмент
террора и подавления, а также средство формирования новых социальных
отношений и «нового человека». В общем, можно сказать, что старая, белая
имперская элита, расписавшись в своей несостоятельности, передала
страну новым, более эффективным красным имперцам с их «средневековым»
правосознанием и религиозным, по сути, фанатизмом. Отсюда и готовность
многих белых имперцев служить большевикам.
Мы, русские
национал-демократы, надеемся, что общество сможет встретить возможный
распад Империи, имея альтернативный проект в плане федерализма и
регионализма. В противном случае не исключено, что свою альтернативу
опять предложат какие-нибудь изуверы типа большевиков – характерно, что
православный имперец и сталинист Владимир Карпец вполне согласен на их
победу, лишь бы они сохранили вечную и непререкаемую ценность наших
консерваторов – Империю, «Великую Россию». Он пишет: «…если Бог Россию
сохранит, то за февралем (ползучим или ускоренным) неизбежно придет
октябрь. Это означает: Россию спасет только полный беспредел, полное
отвержение всяких правил, всякой морали…». Беспредел как база новой
тирании и собирания земель – вот о чем говорит Карпец.
Но за Февралем, надеюсь, придет все-таки весна, а не «беспредел».