[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]
Below are the 8 most recent journal entries recorded in
Книги для читателей's LiveJournal:
| Sunday, December 2nd, 2018 | |
| 6:30 pm [veniamin] |
Яркий талант Зозуля, зная какими падлами вы станете, написал бы совсем иначе. Яркий талант Зозуля, зная какими падлами вы станете, написал бы совсем иначе. Мыслящий участник ЖЖ tdm11 сказал мне в комменте к моей публикации Зозули от 29 нояб. 2018 г.(Моя Москва. Тверская улица глазами одного человека.), что после "Моей Москвы..." он продвинулся в Зозулином творчестве дальше и прочёл "Рассказ об Аке и человечестве". Вот я и подумал о вас. Я подумал, что вы все настолько враги либеральной мысли и талантливого творчества (для Фридман творчество это социальная фантастика и её собственные рифмованные строчки. Или нерифмованные), что нихуя не поймёте и уж конечно не прочувствуете. И кроме хуёв и жидов ничего в комменты к публикации "Рассказа об Аке..." не напхаете. Вот теперь, чтобы в сотый раз подтвердить насколько Тифаретник есть дебильное сборище невежественных Кремлёвских и украинских стукачей и провокаторов я решил поместить "Рассказ об Аке и человечестве". Специально для этого я полностью открываю комменты в это моё сообщество по имени "Книги для читателей". Развлекайтесь. Заходите после чтения ещё разок-другой для знакомства с комментами. Должно быть колоритно. ХА-ХА-ХА! ======================================== Эта страшненькая штуковина 1919-го года, конечно же напоминает по ощущениям "МЫ" Замятина и совершенно жуткий "Котлован" Платонова. Но Платонов написал заметно позже, а Замятин хоть и написал всего лишь на год позже Зозули, но был опубликован в очень усечённом виде аж в 1927, а полностью, только в так называемую "ОТТЕПЕЛЬ". А вот Зозуля поместил этот выстрел прямо в десятку психики читателя своего времени just in time! Мой РУнетный опыт говорит, что мудаки и красавицы-мудачки, — обожающие попиздеть об английском, но в основном по-русски, — обычно вообще не понимают разницу между in time и on time. АГА. ХА-ХА-ХА!!! Зозуля сегодня всё ещё охуенно современный. Это не тот случай, когда мудаки, которые кушают белый хлеб с чёрной икрой за счёт тех, кто пишут, объявляют кого-то современным. Если вы способны читать, — чтобы замечать, узнавать и чувствовать, — то вы прочтёте и сами поразитесь современности творчества Зозули. Редкий и уникальный талант в сочетании с высоким художественным уровнем абстрактного воображения. Вот для Люли жопы Фридман это не талант. Всё чего она не воспринимает и не понимает не есть талант. А не понимает она нихуя, кроме примитива соцфантастики и какой-нибудь фантастической мистики. Ну да! Мистики. Она в девяностых попам руку цаловала. Как раз перед этим у священника случился зуд в его священном афедроне. Бывает, не так ли? А потом дал Люле поцаловать эту руку. Нормалёк, не так ли? Знаете ли вы, ментальные недоноски, что энциклопедия "Британника" и серьёзная английская критика вовсе не считают "1984" by George Orwell его лучшей работой. АГА. Его лучшее — художественное — написано о его жизни и службе в Азии. Только неспособные к самостоятельному мышлению и анализу, вполне советские мудозвоны, типа уже выпавшего в осадок пиздуна Шендеровича или кремлёвских провокаторов, профессоров Каледина с Вербицким, — вместе с огромной массой других пиздунов-снобов, — могут ссылаться на совсем чуждую по ощущениям и духу книгу, для объяснения нашего (НАШЕГО!!! ебёна Матрёна!) гнусного советского опыта — и нашего блядского образа — жизни. Прочтите Зозулю. Может в вас появится что-нибудь человеческое. В конце концов это рассказ о человечестве, не так ли? ========================================  Зозуля Ефим Давидович(1891 — 1941) Ефим Зозуля в возрасте пятьдесят лет пошёл добровольцем на фронт. АГА. Добровольцем в пятьдесят лет. Можете себе теперь представить в какой вонючей жопе в это же время отсиживался "умный" папахен вашего благородного ПСЯ КРЕВ фон Домашевского. Представили? Смотрите не рыганите. Зозуля был несколько раз ранен и в конце 1941-го года умер в госпитале от открывшейся гангрены и других ран. Рассказ об Аке и человечестве1. БЫЛИ РАСКЛЕЕНЫ ПЛАКАТЫДома и улицы имели обыкновенный вид. И небо с вековым своим однообразием буднично голубело над ними. И серые маски камней на мостовых были, как всегда, непроницаемы и равнодушны, когда очумелые люди, с лиц которых стекали слезы в ведерки с клейстером, расклеивали эти плакаты. Их текст был прост, беспощаден и неотвратим. Вот он: «Всем без исключения. Проверка прав на жизнь жителей города производится порайонно, специальными комиссиями в составе трех членов Коллегии Высшей Решимости. Медицинское и духовное исследования происходят там же. Жители, признанные не нужными для жизни, — обязуются уйти из нее в течение двадцати четырех часов. В течение этого срока разрешается аппелировать. Аппеляции в письменной форме передаются Президиуму Коллегии Высшей Решимости. Ответ следует не позже, чем через три часа. Над ненужными людьми, не могущими по слабости воли или вследствие любви к жизни уйти из нее, приговор Коллегии Высшей Решимости приводят в исполнение их друзья, соседи или специальные вооруженные отряды. Примечания. 1. Жители города обязаны с полной покорностью подчиняться действиям и постановлениям членов Коллегии Высшей Решимости. На все вопросы должны даваться совершенно правдивые ответы. О каждом ненужном человеке составляется протокол-характеристика. 2. Настоящее постановление будет проведено с неуклонной твердостью. Человеческий хлам, мешающий переустройству жизни на началах справедливости и счастья, должен быть безжалостно уничтожен. Настоящее постановление касается всех без исключения граждан — мужчин, женщин, богатых и бедных. 3. Выезд из города кому бы то ни было на все время работ по проверке права на жизнь безусловно воспрещается.» </span></span> 2. ПЕРВЫЕ ВОЛНЫ ТРЕВОГИ— Вы читали? — Вы читали?! — Вы читали?! — Вы читали?! Вы читали?!! — Вы видели?! Слышали?! — Читали???!!! Во многих частях города стали собираться толпы. Городское движение тормозилось и ослабевало. Прохожие от внезапной слабости прислонялись к стенам домов. Многие плакали. Были обмороки. К вечеру количество их достигло огромной цифры. — Вы читали?! — Какой ужас! Это неслыханно и страшно. — Но ведь мы же сами выбрали Коллегию Высшей Решимости. Мы сами дали ей высшие полномочия. — Да. Это верно. — Мы сами виноваты в чудовищной оплошности! — Да. Это верно. Мы сами виноваты. Но ведь мы хотели создать лучшую жизнь. Кто же знал, что Коллегия так просто и страшно подойдет к этому вопросу! — Но какие имена вошли в состав Коллегии! Ах, какие имена! — Откуда вы знаете? Разве уже опубликован список всех членов Коллегии? — Мне сообщил один знакомый. Председателем выбран Ак! — О! Что вы говорите! Ак? О, какое счастье! — Да. Да. Это факт. — Какое счастье! Ведь это светлая личность! — О, конечно! Мы можем не беспокоиться — уйдет из жизни только действительно человеческий хлам. Несправедливостям не будет места. — Скажите, пожалуйста, дорогой гражданин, как вы думаете — я буду оставлен в живых? Я — очень хороший человек. Знаете, однажды во время крушения корабля двадцать пассажиров спасались на лодке. Но лодка не выдержала чрезмерного груза, и гибель грозила всем. Для спасения пятнадцати — пятерым пришлось броситься в море. Я был в числе этих пяти. Я бросился добровольно. Не смотрите на меня недоверчиво. Теперь я стар и слаб. Но тогда я был молод и смел. Разве вы не слыхали об этом случае? О нем писали все газеты. Четверо моих товарищей погибло. Меня же спасла случайность. Как вы думаете, меня оставят в живых? — А меня, гражданин? А меня? Я роздал бедным все свое имущество и капиталы. Это было давно. У меня есть документы. — Не знаю, право. Все зависит от точки зрения и целей Коллегии Высшей Решимости. — Позвольте вам сообщить, уважаемые граждане, что примитивная полезность ближним еще не оправдывает существования человека на земле. Этак — всякая тупая нянька имеет право на существование. Это — старо. Как вы отстали! — А в чем же ценность человека? — В чем же ценность человека? — Не знаю. — Ах, вы не знаете! Зачем же вы лезете с объяснениями, если вы не знаете! — Простите. Я объясняю, как умею. — Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите! Люди бегут! Какое смятение! Какая паника! — О, сердце мое, сердце мое… А-а-а!.. Спасайтесь! Спасайтесь! — Стойте! Остановитесь! — Не увеличивайте паники!! — Стойте! 3. БЕЖАЛИБежали по улицам толпы. Бежали краснощекие молодые мужчины с беспредельным ужасом на лицах. Скромные служащие контор и учреждений. Женихи в чистых манжетах. Хоровые певцы из любительских союзов. Франты. Рассказчики анекдотов. Биллиардисты. Вечерние посетители кинематографов. Карьеристы, пакостники, жулики с белыми лбами и курчавыми волосами. Потные добряки-развратники. Лихие пьяницы. Весельчаки, хулиганы, красавцы, мечтатели, любовники, велосипедисты. Широкоплечие спорщики от нечего делать, говоруны, обманщики, длинноволосые лицемеры, грустящие ничтожества с черными печальными глазами, за печалью которых лежала прикрытая молодостью холодная пустота. Молодые скряги с полными улыбающимися губами, беспричинные авантюристы, пенкосниматели, скандалисты, добрые неудачники, умные злодеи. Бежали толстые женщины, многоедящие, ленивые. Худые злюки, требовательные и надоедливые, скучающие, самки, жены дураков и умниц, сплетницы, изменницы, завистливые и жадные, сейчас одинаково обезображенные страхом. Гордые дуры, добрые ничтожества, от скуки красящие волосы, равнодушные развратницы, одинокие, беспомощные, наглые, просящие, умоляющие, потерявшие от ужаса всеприкрывающее изящество форм. Бежали корявые старики, толстяки, низкорослые, высокие, красивые и уродливые. Управляющие домами, ломбардные оценщики, железоторговцы, плотники, мастера, тюремщики, бакалейщики, любезные содержатели публичных домов, седоволосые осанистые лакеи, почтенные отцы семейств, округляющиеся от обманов и подлости, маститые шулера и тучные мерзавцы. Бежали густой, стремительной, твердой и жесткой массой. Пуды тряпья окутывали их тела и конечности. Горячий пар бил изо ртов. Брань и вопли оглашали притаившееся равнодушие брошенных зданий. Многие бежали с имуществом. Тащили скрюченными пальцами подушки, коробки, ящики. Хватали драгоценности, детей, деньги, кричали, возвращались, вздымали в ужасе руки и опять бежали. Но их вернули. Всех. Такие же, как они, стреляли в этих, забегали вперед, били палками, кулаками, камнями, кусались и кричали страшным криком, и толпы бросались назад, оставляя убитых и раненых. К вечеру город принял обычный вид. Трепещущие тела людей вернулись в квартиры и бросились на кровати. В тесных горячих черепах отчаянно билась короткая и острая надежда. 4. ПРОЦЕДУРА БЫЛА ПРОСТА— Ваша фамилия? — Босс. — Сколько лет? — Тридцать девять. — Чем занимаетесь? — Набиваю гильзы табаком. — Говорите правду! — Я говорю правду. Четырнадцать лет я честно работаю и содержу семью. — Где ваша семья? — Вот она. Это моя жена. А вот это сын. — Доктор, осмотрите семью Босс. — Слушаюсь. — Ну, каковы? — Гражданин Босс малокровен. Общее состояние среднее. Жена страдает головными болями и ревматизмом. Мальчик здоров. — Хорошо. Вы свободны, доктор. Гражданин Босс, каковы ваши удовольствия? Что вы любите? — Я люблю людей и вообще жизнь. — Точнее, гражданин Босс. Нам некогда. — Я люблю?.. Ну, что я люблю… Я люблю моего сына… Он так хорошо играет на скрипке… Я люблю поесть, хотя, право, я не обжора… Я люблю женщин. Приятно смотреть, как по улице проходят красивые женщины и девушки… Я люблю вечером, когда устаю, отдыхать… Я люблю набивать гильзы… Могу — пятьсот штук в час… И еще многое я люблю… Я люблю жизнь… — Успокойтесь, гражданин Босс. Перестаньте плакать. Ваше слово, психолог. — Чепуха, коллега. Сор. Самые заурядные существа. Бедное существование. Темперамент полуфлегматический, полусангвинический. Активность слабая. Класс последний. Надежд на улучшение нет. Пассивность 75%. Мадам Босс еще ниже. Мальчик пошляк, но, может быть… Сколько лет вашему сыну, гражданин Босс? Перестаньте плакать. — 13 лет… — Не беспокойтесь. Сын ваш пока останется. Отсрочка на пять лет. А вы… Впрочем, это не мое дело. Решайте, коллега. — Именем Коллегии Высшей Решимости, в целях очищения жизни от лишнего человеческого хлама, безразличных существ, замедляющих прогресс, приказываю вам, гражданин Босс, и вашей жене оставить жизнь в 24 часа. Тише! Не кричите! Санитар, успокойте женщину. Позовите стражу. Они вряд ли обойдутся без ее помощи. 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕНУЖНЫХ СОХРАНЯЛИСЬ В СЕРОМ ШКАФУСерый Шкаф стоял в коридоре, в главном управлении Коллегии Высшей Решимости. У него был обыкновенный солидный, задумчиво-глуповатый вид, как у всех шкафов. Он не имел ни в ширину, ни в вышину трех аршин, но был могилой нескольких десятков тысяч жизней. На нем красовались две коротеньких надписи: — «Каталог ненужных». И: — «Характеристики-протоколы». В каталоге было много отделов и, между прочим, такие: — «Воспринимающие впечатления, но не разбирающиеся». — «Мелкие последователи». — «Пассивные». — «Без центров». И так далее. Характеристики были кратки, объективны. Впрочем, иногда попадались и резкие выражения, и тогда на обороте неизменно алел красный карандаш председателя Коллегии Ака, отмечавший, что бранить ненужных не следует. Вот несколько характеристик: Здоровье среднее. Ходит к знакомым, не будучи нужен или интересен им. Дает советы. В расцвете сил соблазнил какую-то девушку и бросил ее. Самым крупным событием в жизни считает приобретение мебели для своей квартиры после женитьбы. Мозг вялый, рыхлый. Работоспособности нет. На требование рассказать самое интересное, что он знает о жизни, что ему пришлось видеть — он рассказал о ресторане «Квиссисана» в Париже. Существо простейшее. Разряд низших обывателей. Сердце слабое. — В 24 часа. Работает в бондарной мастерской. Класс — посредственный. Любви к делу нет. Мысль во всех областях идет по пути наименьшего сопротивления. Физически здоров, но душевно болен болезнью простейших: боится жизни. Боится свободы. По праздникам, когда свободен, одурманивается алкоголем. Во время революции проявлял энергию: носил красный бант, закупал картофель и все, что можно было: боялся, что не хватит. Гордился рабочим происхождением. Активного участия в революции не принимал, боялся. Любит сметану. Бьет детей. Темп жизни ровно-унылый. — В 24 часа. Знает восемь языков, но говорит то, что скучно слушать и на одном. Любит мудреные запонки и зажигалки. Очень самоуверен. Самоуверенность черпает из знания языков. Требует уважения. Сплетничает. К живой настоящей жизни по-воловьи равнодушен. Боится нищих. Сладок в обращении из трусости. Любит убивать мух и других насекомых. Радость испытывает редко. — В 24 часа. Кричит на прислугу от скуки. Тайно съедает пенку от молока и первый жирный слой бульона. Читает бульварные романы. Валяется по целым дням на кушетке. Самая глубокая мечта: сшить платье с желтыми рукавами и оттопыренными боками. Двенадцать лет ее любил талантливый изобретатель. Она не знала, чем он занимается, и думала, что он электротехник. Бросила его и вышла замуж за кожевенного торговца. Детей не имеет. Часто беспричинно капризничает и плачет. По ночам просыпается, велит ставить самовар, пьет чай и ест. Ненужное существование. — В 24 часа. 6. ЗА РАБОТОЙВокруг Ака и Коллегии Высшей Решимости образовалась толпа служащих-специалистов. Это были доктора, психологи, наблюдатели и писатели. Все они необычайно быстро работали. Бывали случаи, когда в какой-нибудь час несколько специалистов отправляли на тот свет добрую сотню людей. И в Серый Шкаф летела сотня характеристик, в которых четкость выражений соперничала с беспредельной самоуверенностью их авторов. В главном управлении с утра до вечера кипела работа. Уходили и приходили квартирные комиссии, уходили и приходили отряды исполнителей приговоров, а за столами, как в огромной редакции, десятки людей сидели и писали быстрыми, твердыми, неразмышляющими руками. Ак же смотрел на все это узкими, крепкими, непроницаемыми глазами и думал одному ему понятную думу, от которой горбилось тело и все больше и больше седела его большая, буйная, упрямая голова. Что-то нарастало между ним и его служащими, что-то стало как будто между его напряженной, бессонной мыслью и слепыми неразмышляющими руками исполнителей. 7. СОМНЕНИЯ АКАКак-то члены Коллегии Высшей Решимости пришли в управление, намереваясь сделать Аку очередной доклад. Ака на обычном месте не оказалось. Искали его и не нашли. Посылали, звонили по телефону и тоже не нашли. Только через два часа случайно обнаружили в Сером Шкафу. Ак сидел в Шкафу на могильных бумагах убитых людей и с небывалым, даже для него, напряжением думал. — Что вы тут делаете? — спросили Ака. — Вы видите, я думаю, — устало ответил Ак. — Но почему же в Шкафу? — Это самое подходящее место. Я думаю о людях, а думать о людях плодотворно можно непосредственно на актах их уничтожения. Только сидя на документах уничтожения человека, можно изучать его чрезвычайно странную жизнь. Кто-то плоско и пусто засмеялся. — А вы не смейтесь, — насторожился Ак, взмахнул чьей-то характеристикой, — не смейтесь. Кажется, Коллегия Высшей Решимости переживает кризис. Изучение погибших людей навело меня на искание новых путей к прогрессу. Вы все научились кратко и ядовито доказывать ненужность того или иного существования. Даже самые бездарные из вас в нескольких фразах убедительно доказывают это. И я вот сижу и думаю о том, правилен ли наш путь? Ак опять задумался, затем горько вздохнул и тихо произнес: — Что делать? Где выход? Когда изучаешь живых людей, то приходишь к выводу, что три четверти из них надо вырезать, а когда изучаешь зарезанных, то не знаешь: не следовало ли любить их и жалеть? Вот где, по-моему, тупик человеческого вопроса, трагический тупик человеческой истории. Ак скорбно умолк и зарылся в гору характеристик мертвецов, болезненно вчитываясь в их протокольно-жуткую немногословность. Члены Коллегии отошли. Никто не возражал. Во-первых, потому, что возражать Аку было бесполезно. Во-вторых, потому, что возражать ему не смели. Но все чувствовали, что назревает новое решение, и почти все были недовольны: налаженное дело, ясное и определенное, очевидно, придется менять на другое. И на какое? Что еще выдумает этот выживший из ума человек, у которого была над городом такая неслыханная власть? 8. КРИЗИСАк исчез. Он всегда исчезал, когда впадал в раздумье. Его искали всюду и не находили. Кто-то говорил, что Ак сидит за городом на дереве и плачет. Затем говорили, что Ак бегает в своем саду на четвереньках и грызет землю. Деятельность Коллегии Высшей Решимости ослабела. С исчезновением Ака что-то не клеилось в ее работе. Обыватели надевали на двери своих квартир железные засовы и попросту не пускали к себе проверочные комиссии. В некоторых районах на вопросы членов Коллегии о праве на жизнь отвечали хохотом, а были и такие случаи, когда ненужные люди хватали членов Коллегии Высшей Решимости и проверяли у них право на жизнь и издевательски писали характеристики-протоколы, мало отличающиеся от тех, которые хранились в Сером Шкафу. В городе начался хаос. Ненужные, ничтожные люди, которых еще не успели умертвить, до того обнаглели, что стали свободно появляться на улицах, начали ходить друг к другу в гости, веселиться, предаваться всяким развлечениям и даже вступать в брак. На улицах поздравляли друг друга: — Кончено! Кончено! Ура! — Проверка права на жизнь прекратилась. — Не находите ли вы, гражданин, что приятней стало жить? Меньше стало человеческого хлама! Даже дышать стало легче. — Как вам не стыдно, гражданин! Вы думаете, что ушли из жизни только те, кто не имел права на жизнь? О! Я знаю таких, которые не имеют права жить даже один час, а они живут и будут жить годами, а, с другой стороны, сколько погибло достойнейших личностей! О, если бы вы знали! — Это ничего не значит. Ошибки неизбежны. Скажите, вы не знаете, где Ак? — Не знаю. — Ак сидит за городом на дереве и плачет. — Ак бегает на четвереньках и грызет землю. — И пускай плачет! — Пускай грызет землю! — Рано радуетесь, граждане! Рано! Ак сегодня вечером возвращается, и Коллегия Высшей Решимости опять начнет работать. — Откуда вы знаете? — Я знаю! Хлама человеческого еще слишком много осталось. Надо еще чистить, и чистить, и чистить! — Вы очень жестоки, гражданин! — Наплевать! — Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите! — Расклеивают новые плакаты. — Смотрите! — Граждане! Какая радость! Какое счастье! — Граждане, читайте! — Читайте! — Читайте! Читайте! — Читайте!!! 9. БЫЛИ РАСКЛЕЕНЫ ПЛАКАТЫПо улицам бежали запыхавшиеся люди с ведерками, полными клейстеру. Пачки огромных розовых плакатов с радостным трескучим шелестом разворачивались и прилипали к стенам домов. Их текст был отчетлив, ясен и так прост. Вот он: «Всем без исключения. С момента опубликования настоящего объявления всем гражданам города разрешается жить. Живите, плодитесь и наполняйте землю. Коллегия Высшей Решимости выполнила свои суровые обязанности и переименовывается в «Коллегию Высшей Деликатности». Вы все прекрасны, граждане, и права ваши на жизнь неоспоримы. Коллегия Высшей Деликатности вменяет в обязанность особым комиссиям в составе трех членов обходить ежедневно квартиры, поздравлять их обитателей с фактом существования и записывать в особых «Радостных протоколах» — свои наблюдения. Члены комиссии имеют право опрашивать граждан, как они поживают, и граждане могут, если желают, отвечать подробно. Последнее даже желательно. Радостные наблюдения будут сохранены в Розовом Шкафу для потомства». 10. ЖИЗНЬ СТАЛА НОРМАЛЬНОЙОткрылись двери, окна, балконы. Громкие человеческие голоса, смех, пение и музыка вырывались из них. Толстые неспособные девушки учились играть на пианино. С утра до ночи рычали граммофоны. Играли также на скрипках, кларнетах и гитарах. Мужчины по вечерам снимали пиджаки, сидели на балконах, растопырив ноги, и икали от удовольствия. Городское движение необычайно усилилось. Мчались на извозчиках и автомобилях молодые люди с дамами. Никто не боялся появляться на улице. В кондитерских и лавочках сластей продавали пирожные и прохладительные напитки. В галантерейных магазинах шла усиленная продажа зеркал. Люди покупали зеркала и с удовольствием смотрелись в них. Художники и фотографы получали заказы на портреты. Портреты вставлялись в рамы, и ими украшали стены квартир. Из-за таких портретов даже случилось убийство, о котором много писали в газетах. Какой-то молодой человек, снимавший в чьей-то квартире комнату, потребовал, чтобы из его комнаты были убраны портреты родителей квартирохозяев. Хозяева обиделись и убили молодого человека, выбросив его на улицу с пятого этажа. Чувство собственного достоинства и себялюбие вообще сильно развились. Стали обычным явлением всякие столкновения и дрязги. В этих случаях, наряду с обычной бранью, донимали друг друга и таким, ставшим трафаретным, диалогом: — Вы, видно, по ошибке живете на свете? Как видно, Коллегия Высшей Решимости весьма слабо работала… — Очень даже слабо, если остался такой субъект, как вы… Но, в общем, дрязги были незаметны в нормальном течении. Люди улучшали стол, варили варенье. Сильно увеличился спрос на теплое, вязаное белье, так как все очень дорожили своим здоровьем. Члены Коллегии Высшей Деликатности аккуратно обходили квартиры и опрашивали обывателей, как они поживают. Многие отвечали, что хорошо, и даже заставляли убеждаться в этом. — Вот, — говорили они, самодовольно усмехаясь и потирая руки, — солим огурчики, хе-хе… И маринованные селедочки есть… Недавно взвешивался, полпуда прибавилось веса, слава Богу… Другие жаловались на неудобства и сетовали, что мало работала Коллегия Высшей Решимости: — Понимаете, еду я вчера в трамвае и — представьте себе! — нет свободного места… Безобразие какое! Пришлось стоять и мне и моей супруге! Много еще осталось лишнего народа. Толкутся всюду, толкутся, а чего толкутся — так черт их знает! Напрасно не убрали в свое время… Третьи возмущались: — Имейте в виду, что в четверг и в среду меня никто не поздравлял с фактом существования! Это нахальство! Что же это такое?! Может быть, мне к вам ходить за поздравлением, что ли ?! 11. КОНЕЦ РАССКАЗАВ канцелярии Ака, как и раньше, кипела работа: сидели люди и писали. Розовый Шкаф был полон радостными протоколами и наблюдениями. Подробно и тщательно описывались именины, свадьбы, гулянья, обеды и ужины, любовные истории, всякие приключения, и многие протоколы приобрели характер и вид повестей и романов. Жители просили членов Коллегии Высшей Деликатности выпускать их в виде книг, и этими книгами зачитывались. Ак молчал. Он только еще более сгорбился и более поседел. Иногда он забирался в Розовый Шкаф и подолгу сидел в нем, как раньше сиживал в Сером Шкафу. А однажды Ак выскочил из Розового Шкафа с криком: — Резать надо! Резать! Резать! Резать! Но, увидев белые, быстро бегущие по бумаге руки своих служащих, которые теперь столь же ревностно описывали живых обывателей, как раньше мертвых, махнул рукой, выбежал из канцелярии — и исчез. Исчез навсегда. Было много легенд об исчезновении Ака, всякие передавались слухи, но Ак так и не нашелся. И люди, которых так много в том городе, которых сначала резал Ак, а потом пожалел, а потом опять хотел резать, люди, среди которых есть и настоящие, и прекрасные, и много хлама людского — до сих пор продолжают жить так, точно никакого Ака никогда не было и никто никогда не поднимал великого вопроса о праве на жизнь. |
| Thursday, November 29th, 2018 | |
| 7:05 am [veniamin] |
Объяснять кто Ефим Зозуля гондонам я не буду. Так нужно писать блог. О том, что вам самим интересно. О том, что вам самим интересно. Попробуйте пройтись по Тверской сегодня, как это сделал Зозуля и написать об этом. Или по другой улице, а? Ты Люлька псевдоумная мандовошка, а не литератор. Какие же вы все антикультурные скоты. ---------------------------------------- Моя Москва Тверская улица глазами одного человека Очерк Ефима Зозули "Моя Москва", опубликованный в 1936 году в библиотечке "Огонька", заканчивался анонсом: "Настоящая книжечка -- глава из большой книги о Москве. В большой книге, которая будет закончена в ближайшие год-два, материал будет собран по тому же принципу, именно: на основе взаимоотношений одного человека с великим городом". Но эта книга так никогда и не была написана. Печатается с сокращениями по изданию: Ефим Зозуля. Моя Москва. Библиотека "Огонек". No 7, 1936 г. Очень хочется записать все, что происходило, что я лично видел, чувствовал, переживал и что запомнилось мною на улицах Москвы за ряд лет. Именно: на улицах, на площадях, в скверах, в парках, переулках, домах. Интересно: что получится, если собрать какую-то горсть фактов, явлений, впечатлений, прошедших через сознание одного человека? Конечно, тут значительное густо перемежается с мелким и случайным, характерное для Москвы с характерным вообще для человеческой жизни. Но так или иначе, пусть среди обильных и прекрасных литературных материалов о мировой столице революции, о центре новой эпохи, которая растет с каждым днем, будет и такая скромная книга. Начну с Тверской улицы, которая теперь называется: улица М. Горького. Осенним вечером в шестнадцатом году около Страстной площади (теперь Пушкинская) поскользнулась на влажном асфальте и упала лошадь. (Этот участок Тверской, очень незначительный, был асфальтирован давно.) Лошадь упала на бок, сразу, поскользнувшись передними и задними ногами. Было около одиннадцати часов вечера -- самый разгар проституционной биржи. С тротуара раздались свист, хохот, улюлюканье. На улице было полутемно. Запахло чем-то жутким, погромным. Со всех сторон неслась матерная брань. Лошадь поднимали. На тротуаре продолжались выкрики, смех, свист. Это было безмерно отвратительно. Это кричала, свистела и улюлюкала старая Москва. В доме No 38 была "Центропечать". Работало много народу. Была девушка -- веселая, жизнерадостная. Бешено неслась по лестницам со второго этажа на третий. Тоненькая. Голубые глаза. В двадцать третьем году на глазах у всех резко и прямо забрал ее угрюмый какой-то человек. Именно забрал. Когда он приходил, она немела. Увез. О ней долго помнили. Она иногда наведывалась. Рожала каждый год по ребенку. Семь человек детей. Не много ли? Пыталась "оправдываться". Широкое зеленое провинциальное пальто. В тридцать пятом году встретил ее на вокзале: толстая, цветущая, уверенная. Теперь хвастает количеством детей. Весело смеется -- уверенная баба. Около стояли двое ребят -- голубоглазые, чудесные, как она в молодости. В той же "Центропечати" работал Иван Терентьевич, который всегда начинал разговор с середины. Какие-то кусочки стен около Козицкого переулка, где он меня останавливал, до сих пор напоминают его: -- ... Они говорят, что футуризм исчезнет... Ну, конечно, исчезнет... Ну, что собою представляют эти треугольники из кумача, которыми они украшают площади? Конечно, это чепуха. Не в этом дело... Или: -- ... Выдавать деньги... Ну ясно, что здесь нужны две подписи... С одной подписью неудобно. А он говорит, что необходимо еще иметь какую-то визу... Какую еще визу? Такого человека, который всегда начинает разговор с середины, можно вставить в комедию, в драму -- это может быть смешно. Но Иван Терентьевич никогда не был смешон. Он не был ничем замечателен, а чем-то запомнился. Где он сейчас -- неизвестно, но лик его живет около стен Козицкого переулка. На углу Чернышевского -- магазин "Гастроном". В девятнадцатом-двадцатом годах в нем было отделение Роста. В окнах были карикатуры, телеграммы, написанные на больших листах бумаги. Перед окнами стояли люди -- в валенках, в сапогах, в шинелях, в пальто. Мерзли, читали. Одно время была телеграмма "Деникин под Орлом". Читали молча. Расходились. Но к окну подходили другие. Однажды один с большим мешком на плече (в мешке была мука) стоял и долго читал. Серьезно читал, забыв о тяжести на плече. Потом медленно ушел. Вдоль тротуаров зимою снег лежал кучами. В доме No 19 было какое-то общежитие. В нем жил знакомый. С семьей. Жгли ящики из комодов. Есть почти нечего было. Приятель заходил напротив, в кафе поэтов, и смачно ел картофельные пирожные. Я его смутил однажды. Нечаянно спросил, почему он не отнесет пирожное домой, жене, детям. Покраснел. На губах жалко выглядели крошки. Но облизнулся и продолжал есть. "Свинство", -- сказал я -- не для того, чтобы еще более смутить его, а наоборот, чтобы резкой, чересчур преувеличенной оценкой факта мелкого эгоизма смягчить упрек, нивелировать его. Вход в бывшее кафе Филиппова теперь с Глинищевского переулка. А был -- с Тверской. Со времени нэпа, когда это кафе открылось, с этого входа классически выталкивали пьяниц и буянов. Много было драк. Запомнился высокий, с белокурой наивной хулиганской физиономией. Его вытолкнули, и он бил нещадно двух швейцаров, милиционера, извозчика, еще кого-то в зеленой шляпе. Исполинская сила. Что он вымещал с такой яростью? Ему, по-видимому, пришлось "большой ответ держать" за столь большую "прелесть бешенства", как говорил Лев Толстой. Из этих дверей часто выкидывали. Пьяницы традиционно упирались -- ногой в косяк. Еще запомнился один. Еле держась на ногах, деликатно грозился пальцем. Теперь мрачную дверь сняли. Вход с переулка. На Большой Дмитровке, где теперь театр Станиславского, была при нэпе оперетта. Как-то там нанимали и сортировали статистов и статисток. Почему-то я был там и познакомился с одной из статисток -- молодой девушкой. Никогда не забыть одухотворенного ее лица, тонких черт, легких движений. "Я очень пить хочу", -- сказала она. В театре был ремонт, хаос, нельзя было найти воды. Я предложил ей выйти на улицу. Мы завернули в Глинищевский переулок и вышли на Тверскую. "Где же вам напиться?" Я усиленно, но напрасно озирался -- ни кафе, ни киосков не было. На углу продавали фрукты. "Я напьюсь соком, -- сказала она. -- Мне хватит яблока или груши". И она утолила жажду грушей, так жадно и в то же время красиво прижимая губы к плоду. Затем улыбнулась... Где она сейчас? Так ли еще улыбается? Она торопилась. Она не принадлежала себе. Она была так озабочена. Попрощалась. Ушла. Оглянулась, и я помахал ей рукой. Больше ее не видел. Иногда сейчас, на углу Глинищевского и Тверской в воздухе отпечатывается и нежным видением проходит ее образ -- среди автобусов и такси. Немного дальше, около аптеки (когда однажды сняли вывеску аптеки, то оказалось, что здесь жил портной), гордо подняв голову и медленно вынося вперед самодовольные, упрямые ноги, прошел мой враг... "Непримиримый" враг. Я наблюдал его со стороны Моссовета. Он ненавидел меня. Мои рассказы, мои слова, мой голос... Я наблюдал его со стороны. Голова его была гордо и самодовольно откинута назад. Шляпа сидела на темени. Он мешал моей литературной работе... Ругал меня. При упоминании моего имени делал брезгливую гримасу. Чаще молчал -- подчеркнуто молчал. Как-то он объяснил мне, что если при упоминании о ком-либо упорно молчать, то это вреднее и обиднее, чем ругать его. И этот метод он применял ко мне. В тридцатом году вдруг заболел и умер. Когда я не очень спешу по Тверской и прохожу под часами Моссовета, то вижу его иногда около аптеки. Я не рад, что он умер. Личные враги очень серьезно не могут мешать в советской стране. Пусть бы жил, гулял со своей шляпочкой и важно выставлял бы свои самодовольные, неубедительные ноги... Советскую площадь асфальтировали, кажется, в 1932 году. В полтора или два дня. По новому способу: клали асфальт прямо на булыжники. Площадь была прекрасна во время работ, особенно ночью (работали без перерыва): много людей, факелы, синий дым, машины. Один из рабочих, пожилой, с седенькой щеголеватой бородкой, работая, явно рисовался перед любопытными, стоявшими у аптеки. Он работал упоенно, точно играл на сцене: щеголевато ворочал лопатой, ухарски закуривал. Такой самый, точно так же, рисовался перед прохожими и артистически работал в Кутаисе, тоже с лопатой, когда асфальтировал там в тридцать третьем году уличку недалеко от вуза. Может быть, это был именно он? Дальше. Страстная площадь. По каким только направлениям она ни исхожена! Сколько событий -- крупных и мелких! Сколько раз еще придется возвращаться сюда! Иногда в витринах магазинов -- здесь, недалеко от Страстной -- бывают чудесные отражения улицы, фасадов противоположных домов. Тверская узка -- поэтому отражение близко и отчетливо, особенно, если в витринах темные сукна. Я люблю останавливаться около магазина Мосторга No 67. Какая живопись! Бутылочный тон стекла объединяет краски и естественно делает то, что под силу крупнейшему художнику. Иногда я подолгу любуюсь роскошным зрелищем. Около меня останавливаются прохожие и с любопытством смотрят на витрину. Что там? Ничего, граждане. Здесь бесплотная прелесть живописи. Если нравится -- любуйтесь. Сейчас на Тверской стало немного темнее. Поднялся ряд домов. Поднялся, принарядился и смотрит на стоящих против: ну, друзья, когда же и вы подниметесь с колен, выпрямитесь и отодвинетесь -- надо же расширить улицы, мы же должны стать наконец приличной улицей! Против витрины, где цветут изумительные живописные фантазии, -- редакция журнала "Наука и техника". Когда-то здесь было кафе "Бом", потом есенинское "Стойло Пегаса". Здесь часто сиживал Есенин, склонив на мраморный столик "головы своей желтый лист". 1 мая 1935 года здесь же, неподалеку, на углу Б. Гнездниковского, среди демонстрантов обращал на себя внимание парень, несший на высоком шесте надпись на квадратном куске фанеры: "Я учусь в марксистко-ленинском кружке". Понимал ли он простоту и величие этого извещения, поднятого на высоком шесте? Колонны долго стояли, и тут же, как и во многих других местах, танцевали девушки и парни. Одну хотелось бы показать в замедленном движении -- как в кино. Много неповторимой прелести было в ней! Она так притаптывала старательно и так сочно смеялась! Если бы воздух улиц мог отпечатывать все, что в нем происходило -- какая была бы лента изумительных, непревзойденных по интересу картин и фактов! Но были бы факты и не изумительные. Несколько дальше, около столба, несколько лет тому назад отчаянно сопротивлялся беспризорный, которого подобрали на улице. Он невероятно кричал, отбивался и цепко обхватывал основание столба. На столбе сейчас висит надпись: "Остановка автобусов". Беспризорный вряд ли помнит этот столб, который стал пограничным столбом между его беспризорностью и новой жизнью. Вряд ли помнит, как он хватался пальцами за его железное основание. А впрочем, может быть, он, проходя здесь, вспоминает свое неразумное сопротивление. 1 мая 1935 года я пролетал на самолете-гиганте "Максим Горький" очень низко над Тверской. Она была залита людьми, знаменами, цветами. Казалось, люди были неподвижны. Сплошной поток как бы застыл на месте. И в прилегающих переулках застыли черные фигурки людей. Так часто кажется с самолета. В двенадцать часов, после полета, я приехал с аэродрома на Пушкинскую площадь. Дальше нельзя было ехать. Сошел с машины и влился в густую двигающуюся, поющую, играющую, танцующую массу. Стояли люди -- изумительные люди, не изученные, не описанные, не зарисованные. В последние три-четыре года хочется, есть потребность, больше любить людей... Нравятся многие люди. Не все, конечно, но многие. Хочется смотреть на них, любоваться, не сердиться на них, прощать многое (что можно, разумеется, -- я вовсе не толстовец). На углу Козицкого стояла девушка, держа над собой за веревочку воздушный шарик -- голубой и сияющий. Она играла им и смеялась. Нет никаких сомнений, что если бы с нее был написан настоящим художником, любящим жизнь и чувствующим ее прелесть, портрет, он украшал бы любую выставку и перед ним останавливались бы надолго несметные зрители. Каждая улица, каждая площадь имеет свой лик. Его можно образно себе представить. Еще совсем недавно Пушкинская площадь напоминала какое-то круглое и плоское скуластое лицо московской мещанки, открытое и простодушное. Трамваи, которые гремели (и теперь еще гремят) вокруг Страстной, были большими ее жестяными браслетами, Страстной монастырь -- тяжелым нагрудным крестом, а раскинувшиеся в обе стороны бульвары -- не очень пышным, запыленным мехом на ее широких плечах. Высокий дом, бывший Нирензее, был той европейской шляпкой, которая наивно, косо и нагловато сидела на крупной русой голове. Теперь этот образ ушел. Бывший дом Нирензее отодвинулся и потускнел. Вокруг выросли громады. Площадь асфальтирована. Огни и исполинские кинорекламы далеко отодвинули нехитрый образ старой Москвы. Красивая площадь! Солнце, облака, восходы и закаты любят резвиться здесь, заигрывая с гениальной головой Пушкина и четырьмя старинными фонарями, бессменно окружающими его. Какие отблески, какие отсветы! Сколько бликов милой поэтической непостоянности красок и оттенков! Сколько живописных снов проходит здесь! Они скользят, эти сны, чудесными канатоходцами по трамвайным и телеграфным проводам, по верхушкам деревьев убегающих бульваров. Куда же бегут они? Несомненно, они стремятся к отдыху, к нежной и бурной московской любви -- ни в каких парках нет такого количества влюбленных, как здесь, на бульварах, во все времена года -- и весной, и летом, и зимой, и осенью! Да, и зимой, на белом пушистом снегу, среди белых деревьев, сказочно облепленных белым снегом, вы встретите влюбленных, щебечущих на скамейках боковых аллей, влюбленных, которые не могут дождаться весны или, наоборот, затянули весну до глубоких морозов... Но вернемся на улицу Горького. Здесь, вот на этом тротуаре, недалеко от "Правды", остановился мой друг, объездивший весь мир, задумался и сказал: -- Очевидно, тут придется и доживать. Нигде в другом месте. Здесь каждый камень родной. Это было под вечер, а через час, когда стемнело, к цветочному киоску, который находится в центре площади, против монастыря, подошел человек, держа об руку молодую девушку. Она была работницей, и он был рабочим, а может быть, инженером, а может быть, молодым ученым (ведь по внешности в Москве ни о ком нельзя судить -- люди внутренне растут и развиваются быстро, а внешность часто не поспевает и отстает). Он так поразительно бережно держал ее за руку, смотрел на нее, так был нежен с ней. Я остро завидовал ему, хотя вообще не завистлив. Она выбирала цветы, с полуоткрытым ртом, молодым и радостным, упоенно вглядываясь в каждый лепесток. Они не видели, что творилось вокруг, как я их разглядывал. Они жили друг другом, цветами, своей радостью. Можно было бы написать поэму о прелести новых людей, об ее круглых и мускулистых руках, об ее пальцах, больших и плотных, но, несомненно, теплых, сильных и нежных, об ее ногах, тоже крупных и в то же время удивительно женственных, о малейшей черте ее облика, ее движениях, повороте головы, улыбке, словах. То же самое и о нем. В доме No 48 была "Правда". В этот двор не раз въезжал Ленин. Большой двор был вечно занят автомобилями, рулонами бумаги. Сколько крупнейших людей эпохи проходили по этому длинному коридору, часто покрытому пятнами масла и типографской краской, в стоящий глубоко во дворе редакционный корпус, сердце революционной печати, центральный орган коммунистической партии -- "Правду". О людях "Правды" должна быть и будет написана особая книга, вернее -- много книг. В праздник Октября улица Горького была украшена архитектурными планами, проектами и макетами. Во всех витринах были выставлены проекты новых зданий. В одной из витрин, против Брюсовского переулка, был выставлен эскиз будущего театра Мейерхольда. Это здание составит часть будущей Триумфальной площади. Смелая колоннада фронтона придает ему выражение того творческого беспокойства, которое характерно для Мейерхольда. На углу Тверской и Охотного была одна из первых шахт метро. Шахта находилась против того места, где сейчас вход в метро. В шахту спускались по узкой вертикальной лестнице. Я спускался в тридцать втором году в брезентовом костюме. В этом месте, под Тверской и Охотным, было чумное кладбище XVI века. Человеческих костей нашли немало. Одни лежат, другие стоят или находятся в наклонном положении. Находили и находят стоящих вниз головой. Отчего это? Может быть, от подпочвенных сдвигов, напора вод, а может быть, тут были и счеты господ купцов, бояр и попов с неугодными и неудобными людьми. Под Тверской был чернозем или нечто вроде чернозема, которому вначале особенно обрадовались: через него было хорошо делать проходку -- чистый, хороший чернозем. Но этот "чернозем" оказался предательским. Он давал проходить через себя и падал огромными глыбами. Его потом боялись больше всех других напластований, -- как только он встречался, сейчас же подпирали особенно тщательно. Здесь было одно из первых подземелий. Было очень мокро, тускло, тесно. Потом все это изменилось. Стали строить шире, увереннее, чище. Сейчас от шахты не осталось и следов. Чистая улица, расширенная, широкая перспектива, слева, если приближаться к Красной площади, большие новые дома Охотного ряда. Огромное впечатление. Москва с каждым днем образует новые ракурсы для фото, для живописи. Надо снимать! Надо писать! Надо, чтобы фотографы и художники имели возможность снимать и писать не только с тротуаров, балконов и крыш, а пользоваться передвижными возвышениями. Надо, чтобы они могли с любой самой неожиданной точки, окруженные вниманием и помощью, снимать и живописать великий город. С каждым днем растущие красоты Москвы пока еще почти никак не запечатлены. Это пишется в 1935 году. Хотелось бы, чтобы к моменту выхода книги эти строки можно было бы зачеркнуть как устаревшие. ... Опять прохожу по улице Горького. Много раз еще придется вернуться сюда, чтобы вспомнить и лучше увидеть то, что произошло на ней и что есть сейчас. Балкон Моссовета. Много шествий останавливалось перед этим балконом. Много речей оглашало с него Советскую площадь! Значительное связано с личным... Здесь, на крутом спуске к проезду Художественного театра, я спускался на велосипеде. Из дома No 22, где была какая-то театральная студия, выбежал маленький режиссер, бежал за мной, звал меня и упал. Я не мог сразу остановиться на крутом спуске. Наконец соскочил с велосипеда и подошел к нему. Он встал с булыжников, отряхивая пыль с колен, и второпях заказал мне пьесу... Много раз я спускался по этому крутому месту Тверской на велосипеде, оглядывался, но больше никто не бегал, не падал и пьес не заказывал... Здание телеграфа преобразило эту часть Тверской. Оно главенствует днем и особенно вечером и ночью, всегда освещенное, с трудовым человеческим муравейником, хорошо видным из окружающих домов и улиц на большом пространстве. Оно имеет трудовой вид, это здание, и вызывает аппетит к работе. Недалеко от телеграфа маленькая лавочка, в которой в девятнадцатом году иногда продавали молоко. Мы с товарищем по очереди спешно покупали здесь молоко, чтобы почти бегом нести его на Арбат, в пустую квартиру, где лежала в тифу Надя, домработница. Добросердечный хозяин, когда она заболела, переселился к товарищу и оставил ее одну в большой холодной квартире. Мы, квартиранты, занимавшие одну из комнат, чудом выходили ее, и выздоровевшая Надя долго плакала потом и произносила речи на тему о черствости и бездушии хозяев. Здесь, немного дальше, за Охотным рядом, демонстранты в парадные дни испытывают острое нетерпение. Здесь затихают песни, застывают знамена, колонны ждут момента вступления на великую площадь. Тверская значительно расширяется в этой части. Сейчас снимается дом, заслонявший новую гостиницу Моссовета. Днем и ночью гудят грузовики, подъезжающие, поворачивающие и увозящие камни и доски снимаемого здания. Скоро широкая, радостная улица будет заключать Тверскую или начинать ее и вести на Красную площадь. Против гостиницы "Националь" тоже снимается дом, его также окружает маленький деловой заборчик. Ах, этот московский заборчик! Лишь только он появляется, как за ним творятся большие дела: либо снимается в несколько дней старый дом, либо очень скоро и буйно вырастает новый. В "Национале" жило много революционных работников, самых различных. Одни из них очень известны сейчас и живут в других местах, другие погибли в славных боях и сгорели на работе. Здесь жил и милый, оригинальный и мыслящий неудачник, всю жизнь носившийся с необыкновенными планами и так и умерший, не осуществив их. Это был необыкновенный ум. Когда были получены сведения об исчезновении Амундсена, он три раза туда и обратно прошел со мною всю Тверскую и излагал научные предположения о гибели арктического исследователя. Все это было глубоко интересно и правдоподобно. В другой раз, узнав, что я еду в Париж, он опять несколько раз прошел со мною всю Тверскую и советовал спуститься в парижские подземелья и посмотреть, как там устроен водопровод. Он рассказывал интереснейшие вещи, но когда я, завороженный им, спустился в Париже в подземелье, то там оказалось нечто совсем другое... Это был чудесный фантазер, увлекающийся мечтатель. Сколько раз мы шагали по Тверской -- в годы, когда она была еще пустынной, бедной, голодной, облезшей. Дальше. Дом No 19. Большой двор. Здесь направо были "повара". Знаменитые повара, которые кормили изысканных москвичей в девятнадцатом году. Обед стоил две тысячи рублей. Помещение состояло из большой кухни. Недалеко от плиты стоял длинный деревянный стол. За этим столом и шло это отчаянное чревоугодие. Питался здесь и некий служащий -- в грязных больших калошах и с перевязанной щекой. Он сокрушенно говорил заведующему в своем учреждении: -- Как можно жить, если один обед у "поваров" стоит две тысячи рублей, а я у вас получаю тысячу восемьсот без пайка? А счета на извозчиков вы мне не оплачиваете? Заведующий презрительно отвечал -- по слогам: -- По-тре-би-тель-ска-я психология. Теперь от "поваров" идут магазины, в которых продают в одном -- цветы, в другом -- изысканное печение! И сколько таких магазинов в Москве! Сколько их в стране! Цветы и хлеб, цветы и хлеб! Угол Брюсовского переулка. Здесь бурно кипятился старый знакомый мой. Как он гневался! Его не признают. Его работ не ценят. За ним не признают талантов и способностей. Какой ужас! На узких, злых губах его была пена. Настоящая пена. Его глаза были очень злы. Это было давно, но это запомнилось. Его не признают... Недавно я опять встретил его у того же Брюсовского переулка. "Ах, это что-то немыслимое". Вы можете себе представить?! Его продолжают не признавать... Глаза его посинели от озлобления... Бедняга! Он не понимает, что признания в советской стране добиваются не жалобами, а трудом, работой, волей и общественной полезностью. Он не понимал, что при наличии этих условий глубокая радость признания доступна всем... Еще не раз придется вернуться на Тверскую. Многое срослось с ее домами, с ее камнями, с ее воздухом. Вениамин |
| Wednesday, May 31st, 2017 | |
| 10:55 pm [veniamin] |
Александра Бруштейн. "Дорога уходит в даль…" Книга Вторая. "В рассветный час" (Четвертая глава)  ССЫЛКА на первую книгу трилогии А.Я. Бруштейн "Дорога уходит вдаль..." целиком в этом же моём сообществе. Можно читать. https://lj.rossia.org/community/thelibr Глава четвёртая. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОКОНЧЕН После уроков Дрыгалка не сразу отпускает нас домой. Сперва она диктует нам, что задано к следующему уроку. Потом длинно объясняет: каждая девочка должна принести из дома мешок для калош, стянутый вверху веревочкой или тесемкой, — мешок этот должен висеть на вешалке, на «номере» своей хозяйки. Она диктует нам эти номера. Мой номер оказывается «тринадцатый». Затем черненькая Горбова читает «молитву по окончании ученья»: — «Благодарим тебя, создателю, яко сподобил еси нас благодати твоея во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, и всех ведущих нас к познанию блага и подаждь нам силу и крепость для продолжения учения сего». Дрыгалка строит нас в пары — пара за парой, пара за парой! — десять раз повторяет, что внизу, в швейцарской, мы не должны галдеть, заводить между собой длинные разговоры: «Одеться — и домой!» Наконец она ведет нас вниз, в швейцарскую. Когда мы уже двинулись, Дрыгалка вдруг спохватывается, останавливает наше начавшееся было шествие: — Помните! Идти ровно, плавно, не возить ногами, не шаркать! Ну, слава богу, тронулись… Но когда мы уже подходим по коридору к лестнице, ведущей вниз, нам навстречу приближается колонна учениц первого отделения нашего же класса. Их ведет своя классная дама. От всеведущей Мели мы знаем, что ее прозвали «Мопсей» (очень метко!). Дрыгалка останавливает нашу колонну. Мы, второе отделение, стоим и пропускаем вперед себя первое отделение. Первые десять пар девочек не идут вниз по лестнице: они — пансионерки, они живут в самом институте. Лестница не кончается на нашем втором этаже (здесь только классы, актовый зал и коридоры), она заворачивает выше, на третий этаж. Там находятся дортуары (спальни) и другие помещения для пансионерок. Медленно («Тихо! Плавно» — покрикивает на девочек повизгивающим голосом Мопся) десять пар пансионерок поднимаются, по лестнице на третий этаж. После этого оставшиеся восемь пар приходящих учениц первого отделения спускаются вниз по лестнице в швейцарскую. И лишь тогда Дрыгалка ведет вниз нас, второе отделение. Мы должны знать свое место. В первом отделении учатся «сливки» — внучка городского головы, дочка командующего военным округом, дочери богатых фабрикантов и купцов, а во втором отделении мы. Мы — «снятое молоко»: дети интеллигенции, младших офицеров, более мелкого купечества.( ДАЛЬШЕ ВСЯ ГЛАВА ) |
| Tuesday, May 30th, 2017 | |
| 9:11 pm [veniamin] |
Александра Бруштейн. "Дорога уходит в даль…" Книга Вторая. "В рассветный час" (Третья глава)  ССЫЛКА на первую книгу трилогии А.Я. Бруштейн "Дорога уходит вдаль..." в этом же сообществе. Можно читать. http://lj.rossia.org/community/thelibra Глава третья. А ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСЕ ДЛИТСЯ! Урок танцев происходит в актовом зале. Зал — большой, торжественный, по-нежилому холодноватый. В одной стене — много окон, выходящих в сад. На противоположной стене — огромные портреты бывших царей: Александра Первого, Николая Первого, Александра Второго. Поперечную стену, прямо против входа в зал, занимает портрет нынешнего царя — Александра Третьего. Это белокурый мужчина громадного роста, тучный, с холодными, равнодушными, воловьими глазами. Все царские портреты — в широких золоченых рамах. Немного отступя от царей, висит портрет поменьше — на нем изображена очень красивая и нарядная женщина. Меля объясняет нам, что это великая княгиня Мария Павловна, покровительница нашего института. Под портретом великой княгини висит небольшой овальный портрет молодой красавицы с лицом горбоносым и надменным. Это, говорит Меля, наша попечительница, жена генерал-губернатора нашего края Оржевского. Мы входим в зал парами — впереди нас идет Дрыгалка. Паркет в зале ослепительный, как ледяное поле катка. Даже страшно: «Вот поскользнусь! Вот упаду!» Вероятно, так же чувствует себя Сингапур, попугай доктора Рогова, когда его в наказание ставят на гладко полированную крышку рояля.( ДАЛЬШЕ ВСЯ ГЛАВА ) |
| Monday, May 29th, 2017 | |
| 8:48 pm [veniamin] |
Александра Бруштейн. "Дорога уходит в даль…" Книга Вторая. "В рассветный час"(Вторая глава)  ССЫЛКА на первую книгу трилогии "Дорога уходит вдаль..." в этом же сообществе. Можно читать. http://lj.rossia.org/community/thelibra Глава вторая. ПЕРВЫЕ ПОДРУГИ, ПЕРВЫЕ УРОКИ — Здравствуй… — слышу я вдруг негромкий голос. — Ты меня узнаешь? Ну конечно, я узнаю ее! Это Фейгель, та девочка, которая экзаменовалась вместе со мной и так хорошо отвечала по всем предметам. Я радостно смотрю на Фейгель: вот я, значит, и не одна! Тогда, во время экзаменов, Фейгель показалась мне усталой, словно несущей на себе непосильную тяжесть. Но в тот день мы все устали от непривычного волнения и напряжения — я, наверно, была такая же измученная, как она. А сегодня в Фейгель ничего этого нет. Глаза, правда, грустные, но, наверно, они всегда такие. А в остальном у нее такое лицо, как у всех людей. — Почему ты здесь стоишь? — спрашивает она. — А ты? — Нет, я хотела спросить, почему ты не входишь в институт? — поправляется Фейгель. — А ты? — отвечаю я и смотрю на нее с улыбкой. Ведь мы обе отлично знаем, что мешает нам перейти через улицу и войти в подъезд института: мы робеем, нам даже немного страшно… и одиноко… все близкие нам люди остались дома. И по этой же причине мы так обрадовались друг другу, что сперва заулыбались, а потом начинаем смеяться. На нас нападает внезапный беспричинный «смехунчик». Прохожие оглядываются на нас: стоят две девочки в форменных коричневых платьях, крепко держась за руки, и заливаются смехом, глядя друг другу в глаза. У Фейгель от смеха выступили на больших темных глазах слезы. — Ты плачешь? — пугаюсь я. — Нет, нет! — успокаивает меня Фейгель. — Это у меня всегда такой смех. — А как тебя зовут? — Маней. А тебя — я знаю! — Сашей… Ну, пойдем, скоро начнутся уроки. Мы переходим улицу. У темной глубокой двери с медным кольцом я снова останавливаюсь: — Постоим одну секундочку, хорошо? Маня соглашается. Ей, видно, тоже страшно взяться за медное кольцо. Др-р-р! Др-р-р! — барабанит вдруг дробь по моему ранцу, словно его общелкали целой пригоршней орехов. Я вздрагиваю от неожиданности! Быстро оборачиваюсь: позади меня стоит невысокая толстенькая девочка в черном чепчике, обшитом черными кружевами и скрывающем всю ее голову. Девочка что-то с аппетитом жует и весело смеется. — Это я! Я по твоему горбу барабаню. А почему у тебя ранец? Разве ты солдат или гимназист? — продолжает она, смеясь.( ДАЛЬШЕ ВСЯ ГЛАВА ) |
| Sunday, May 28th, 2017 | |
| 3:05 pm [veniamin] |
Александра Бруштейн. "Дорога уходит в даль…" Книга Вторая. "В рассветный час" (Первая глава) Как на мой взгляд, Первая книга из этой трилогии, "Дорога уходит в даль…" — которую я уже поместил в этом же сообществе,— лучшая. Там куда больше прямых и непосредственных детских впечатлений, эмоций и чувств. В Первой книге тоже есть социальные и даже политические страдания и проблемы, но они в основном подаются через восприятие ребёнка. В любом случае, Вторая и Третья книги этой трилогии, уж наверное получше чем ваша припиздеканная фантастика, в которой некая, неизвестная вам профессорша, даже находит глубокую философскую мысль. Дамочка вроде и в Высшего духа, типа в Бога, верит. В 21-ом веке, а? Как ебанутый и невежественный ООРТ. Да, можно уверить себя в чём хочешь. Но это будет бессмысленный, и в случае с ентой профессоршей, снобистский самообман. Кому не подходит — просто не читайте. А ебала держите на замке. Как и в случае с Первой книгой, только первая глава без ката. Все остальные главы пойдут под кат. Это всё. ССЫЛКА на первую книгу трилогии "Дорога уходит вдаль..." в этом же сообществе. Можно читать. http://lj.rossia.org/community/thelibra  Александра Яковлевна Бруштейн (1884-1968) Дорога уходит в даль… Книга Вторая В рассветный час  ССЫЛКА на все главы: Глава первая. СВОЕЙ ДОРОГОЙ Глава вторая. ПЕРВЫЕ ПОДРУГИ, ПЕРВЫЕ УРОКИ Глава третья. А ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСЕ ДЛИТСЯ! Глава четвёртая. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОКОНЧЕН Глава Первая. СВОЕЙ ДОРОГОЙ — Спать! — командует мама. — Мамочка… — Ничего не «мамочка»! Спать! — Но ведь сейчас только восемь… Я всегда до девяти! — Тебе надо хорошенько выспаться! — отчеканивает мама с необычной для нее твердостью. — Чтобы завтра не проспать, не опоздать, сохрани бог, на уроки! Конечно, это серьезный довод. И я подчиняюсь, хотя и очень неохотно. — Все равно не засну… — ворчу я, укладываясь в постель. — Как я могу заснуть в восемь часов! Цыпленок я, что ли? С этой мыслью — «все равно не засну!» — я лежу в постели. Поль, моя учительница французского языка, тоже почему-то улеглась в такую рань, одновременно со мной. Она очень волнуется за меня, даже несколько раз в течение этого дня принималась сосать лепешечки из своей заветной коробки. Эти лепешки — ужасно невкусные! — сделаны из сока дерева эвкалипт. Такое красивое название, и такие противные на вкус лепешки! Они, собственно говоря, предназначены для лечения людей от кашля, но Поль принимает их от всех болезней: от головной боли, от сердцебиения, даже от ангины и расстройства желудка. Поль уверяет, что эвкалиптовые лепешки — «совершенно волшебное лекарство!». В общем, учиться пойду завтра я, а волнуется из-за этого весь дом! И не только Поль без конца ворочается в постели и сосет свои лепешечки. Даже маленький Кики, блекло-зеленый попугайчик, слепой на один глаз, — даже он сегодня почему-то не засыпает, шебаршит в своей клетке. При этом он издает порою тихие «звучки», словно жалуется: «Где мой глаз? Почему у меня только один глаз?» В другое время Поль сказала бы с гордостью: «О Кики такой умный! Он все понимает — как человек!». Но сегодня Поль даже не замечает этого. Она так волнуется, что ей не до Кики… Дверь в столовую открыта, и, лежа в кровати, я вижу все, что там делается. Мама за столом раскладывает пасьянс, но совершенно ясно, что карты ее не интересуют и она в них почти не смотрит. Порой она неожиданно задумывается и неподвижно глядит в одну точку. По другую сторону стола сидит наш старый друг доктор Рогов, Иван Константинович. Он тоже раскладывает свой любимый пасьянс «Могила Наполеона» (он только этот один пасьянс и знает) и тоже часто отрывается от карт, словно его тревожат другие мысли. Папа ходит по столовой — взад-вперед, взад-вперед. А Юзефа отчаянно, на всю квартиру, гремит в кухне посудой и утварью, поминутно роняя на пол то одно, то другое. Грохоту — на весь дом! — Юзефа! — просит мама мягко. — Не гремите кастрюлями! — А когда ж яны — бодай их, тыи каструли! — сами з рук рвутся! Як живые… — Яков… — пробует мама остановить папино вышагивание по столовой. — Перестань метаться, как леопард в клетке! — «Яков ты, Яков, цвет ты наш маков…» — вдруг напевает Иван Константинович. — Не мечись как угорелый. Ребенок и без того волнуется. — Вспомни, как ты когда-то сам в первый раз пошел в гимназию, — напоминает мама. Папа, по своему обыкновению, присвистывает: — Фью-ю-ю! Это же было совсем другое дело! — Почему «другое»? — Потому, что я был пятнадцатилетний парень, почти взрослый. Моя мать хотела, чтобы я непременно стал ученым раввином. Меня учили всякой религиозной премудрости, а я мечтал учиться светским наукам — и в особенности математике и медицине! — Вот! — радуется Иван Константинович. — В рифму со мной! Я в Военно-медицинскую академию из духовной семинарии подался. Меня папаша с мамашей в священники прочили… Как же ты все-таки, Яков Ефимович, в гимназию попал? — Не попал бы! — говорит папа. — Не попал бы, если бы не мой отец. Он был целиком на моей стороне. Он нанял мне учителя — гимназиста последнего класса, и тот за три рубля в месяц занимался со мной потихоньку от моей матери, у нас на чердаке. Мышей там было! Как-то мыши изгрызли латинскую и греческую грамматики Кюнера и Ходобая, и я, почти взрослый, заплакал, балда, навзрыд. Как ребенок!.. Отец ничего не сказал, только вздохнул — это ж было бедствие, катастрофа! — и стал шарить по карманам. Выложил всю обнаруженную наличность — шестьдесят две копейки! — и дал мне. «На, сбегай в лавку, купи новые книжки…» Лежа в постели, не подавая голоса, я внимательно слушаю папин рассказ. Я думаю о своем дедушке — папином отце. Этот дедушка ведь совсем неученый, только грамотный, а вот понимал, что детей надо учить, что для этого ничего не жалко. Молодец дедушка! Когда они с бабушкой вернутся с дачи в город, я ему скажу, что он хороший и я его люблю. — Ну, в общем, — рассказывает папа в столовой, я благополучно одолел меньше чем за два года курс четырех классов гимназий — и выдержал экзамен экстерном при Учебном округе. Это было почти чудо: никто там экзаменов не выдерживал, всех резали. Но я все-таки получил круглые пятерки: и за латынь, и за греческий, и по математике, и по всем предметам — и мне дали свидетельство от Учебного округа. С этим свидетельством отец поехал — будто бы по делу! — в город Мариамполь, и там меня приняли в пятый класс местной гимназии… — Почему в Мариамполе? — удивляется Рогов. — Почему не здесь, в своем городе? — Что вы, что вы! — Папа, смеясь, машет рукой. — Здесь мамаша не дала бы мне учиться. Нет, отец разработал хи-и-итрый стратегический план! Мы с ним тайком перетаскали на чердак все мои книги и вещи. Отец, потихоньку от матери, купил мне на толкучке подержанную гимназическую форму: брюки, блузу с поясом, шинель, фуражку с гербом. Все это мы связали в узел. Поздно вечером отец посадил меня в поезд, идущий в Мариамполь. В вагоне он обошел всех пассажиров, всякому поклонился и сказал: «Вот это — Яков, мой сын, он едет учиться. Будьте ласковы, присмотрите за мальчиком». А кондуктору отец дал гривенник: «Имейте в виду, мальчик у меня такой: если он начнет читать книжку, он до Парижа доедет! Так уж вы, пожалуйста, высадите его раньше: в Мариамполе!» — Ну, и как ты доехал? — интересуется мама. — Ох, лучше не спрашивай! Я ведь в первый раз в жизни ехал по железной дороге… Меня тошнило и мутило, как на океанском пароходе! — А в Мариамполе как ты устроился? — Роскошно! Я высадился со своим узелком и с семью рублями, которые мне дал отец. Нашел «ученическую квартиру», где за пять рублей в месяц давали угол и стол таким бессемейным гимназистам, как я. И зажил почти как принц! — Почему только «почти»? — не выдержав, подаю я голос из своей комнаты. — Смотри ты, она не спит! — Ты скажи мне, почему только «почти как принц», папа, и я сию минуту усну! — Да потому, что ведь принцы, насколько мне известно, не учатся в мариампольской гимназии, — по крайней мере, при мне там не было среди учеников ни одного принца. Ну, и конечно, принцы вряд ли живут на «ученических квартирах», не едят одну только картошку с селедкой… В общем, я думаю, что принцам ученье достается лучше, чем нашему брату. — А учился ты хорошо, папа? — Да как же иначе? — удивляется папа. — Я поступил прямо в пятый класс, проучился четыре года и кончил гимназию с медалью. Без медали меня не приняли бы в университет. — Молодец! — хвалю я. — Не я молодец, а мой отец: он моей головой пробил дверь к ученью всем моим шести младшим братьям. — А как же бабушка? — Бабушка поплакала, погоревала — и смирилась. Теперь она даже рада, гордится тем, что четверо из нас уже кончили университет и «вышли в люди». Остальные трое еще учатся… — Но тут, вдруг спохватившись, папа сердито кричит мне: — Да будешь ты наконец спать или нет? — и притворяет дверь из столовой. Я благоразумно умолкаю. «Все равно мне так рано не уснуть!» — продолжаю я думать. Кровать моя стоит у окна, и я вижу спокойное, глубокое ночное небо. Луна висит в небе, как золотая дыня. Я вижу на ней глаза, нос, рот… Конечно, я знаю, что это горы на далекой луне, но до чего это похоже на человеческое лицо! Бывают вечера, когда луна смотрит на землю весело, добродушно — вот-вот улыбнется и подмигнет! И иногда у луны лицо недовольное и обиженно поджаты губы. Сегодня луна очень ласковая и доброжелательная. На нее просто приятно глядеть. «Конечно… я… так рано… не усну…» — продолжает вертеться у меня в голове. Луна закрывается легким облачком, как шарфиком. Потом из глаз луны выкатываются крупные слезы, похожие на перевернутые вниз головой запятые. Потом луны уже не видно, а идет дождик, такой тепленький, будто небо плачет супом! Капли этого дождя-супа падают на мое лицо, скатываются ко мне за ухо, за ворот моей ночной рубашки и пахнут чем-то очень знакомым и уютным… Кухней, плитой, свежемолотым кофе… Юзефой! Это и в самом деле Юзефа, моя старая няня. Стоя на коленях около кровати, она чуть-чуть касается меня рукой, загрубелой от работы, шершавой от стирки. При этом она еле слышно шепчет на том языке, на котором молятся в костелах и который сама Юзефа не без гордости называет «латыньским». Впрочем, латинских слов Юзефа знает только два: «патер ностер» («отче наш»), а за этим следует перечисление Христа, всех католических богородиц и святых: — Патер ностер… Езус Христос… Матка боска Острабрамска, Ченстоховска… — бормочет Юзефа. Это она призывает мне в помощь всех небесных заступников, продолжая кропить меня слезами. — Юзенька… — бормочу я сквозь сон, — как ты мокро плачешь… И снова закрываю глаза, снова меня качает на сонной волне. Но тут вдруг будто кто крикнул мне в ухо: «Юзефа плачет!» Я раскрываю глаза, мне больше не хочется спать. — Юзенька! Тебя кто-нибудь обижает? — Никто мене не забижает… Тебя, шурпочку мою, не забидел бы кто там, у кляссе… Смотри, будут бить — не давайся! Никакими уверениями невозможно поколебать Юзефину убежденность в том, что в институте («у кляссе») детей бьют. Бьют и учат, учат и бьют. Я начинаю повторять все давно уже приведенные доводы: теперь в школах не бьют — если бы там били, разве папа и мама отдали бы меня туда? — и т. д. Но вдруг замолкаю на полуслове, на меня нападает страх: опоздаю! Вон уже как светло, уже утро, — опоздаю на первый урок в институт! Срываюсь в ужасе с кровати: — Который час? Нет, не опоздаю: сейчас только семь часов утра. Уроки начинаются в 9 с половиной, а ходу от нашего дома до института всего минут десять, да и то если останавливаться перед каждым магазином и засматриваться на все витрины! Времени еще много! Все-таки на всякий случай: а вдруг что-нибудь меня задержит? Вдруг улицу перегородят телеги или марширующие солдаты? — я начинаю мыться и одеваться. Так поспешно, что все валится у меня из рук. Скорее, скорее, уже десять минут восьмого! Когда человек торопится, вещи, словно нарочно, стараются мешать ему. Где моя левая туфля? Куда она убежала? Ведь это же безобразие: у человека две ноги — и почему-то только одна туфля! Я с негодованием повторяю по адресу своих туфель то, что постоянно твердит наш друг, старый доктор Иван Константинович Рогов, когда он на что-нибудь или кого-нибудь рассердится: — Это хамство, милостивые государи! Да-с! К счастью, «милостивая государыня» — левая туфля моя — отыскалась: она почему-то засунулась за ножку кровати. С форменным коричневым платьем — новая беда: оно почему-то застегивается на спине! Ну что за глупая выдумка портнихи! Застегивать платье на спине — этак можно целый час проканителиться. И, по-моему, когда я примеряла платье, застежки были сделаны по-людски, спереди… — Да ты надела платье задом наперед! — показывает мама. — А то — добре! — серьезно уверяет Юзефа. — Наизнанку надеть платье — плохо. А задом наперед — добрый знак! Все мои вещи еще с вечера уложены в большой, вместительный кожаный ранец с мохнатой, ворсистой крышкой из жеребячьей шкуры. Мне, конечно, немного досадно, почему у меня ранец, как у мальчишек, а не изящная сумка для книг и тетрадок, как у большинства девочек-учениц, встречающихся на улице. Но ранец — это папина причуда, докторская. Сумку-де надо носить на одной руке, а от этого у девочек позвоночник искривляется на ту именно сторону. Конечно, если папа говорит, так это, наверно, правда, и позвоночник в самом деле искривляется. Но все-таки мне хотелось бы шагать в школу с легонькой сумкой, висящей на руке. И еще бы я хотела — мое давнишнее затаенное мечтание! — чтоб по спине у меня спускалась длинная коса… Ох, косой мне все еще не приходится хвастать! На затылке у меня малютка-косюля с бантиком — все равно как если бы сплели косу из весенних стебельков травы, только что пробившихся из-под земли. Зато в ранце у меня множество сокровищ, новеньких, еще не опробованных. Книжки, тетрадки со вложенными в них четырехугольниками промокашек — от всего этого вкусно пахнет клеем. Карандаши, перья, резинка — одна половинка ее светлая, другая темная: под карандаш и под чернила. Ручка, на которую насажена петушиная головка. Когда пишешь, то головка эта качается, словно приговаривает: «Так, так, так… Пиши, пиши, пиши… Очень, очень, очень прекрасно!» Пенал, подарок Поля, — мечта, а не пенал! На деревянной крышке его выжжено изображение роскошного зайца. Выжигали, видимо, не очень большие искусники: рот и нос зайца слились воедино — похоже, что заяц с аппетитом сосет свой собственный нос, а удивленные раскосые заячьи глаза будто говорят: «Смотри ты! Обыкновенный нос, а как вкусно!» В боковом карманчике ранца лежит завернутый в пергаментную бумагу мой завтрак — я буду есть его на большой перемене: между третьим и четвертым уроками. — Я положила тебе побольше, — говорит мама. — Захочешь — угостишь какую-нибудь подружку. — Сама ешь! У них — свое, у тебя — свое! — сердится Юзефа и с укором обращается к маме: — Вы ей эту моду не показывайте: подружков кормить! Она тогда сразу все отдаст и голодная бегать будет. Только одной вещи нет у меня в ранце (а ее-то мне, ох, как хотелось бы иметь!): перочинного ножа! Когда обсуждался вопрос о перочинном ноже, Поль стояла за то, что ножик — полезная вещь и надо купить мне ножик. Но Юзефа начала так плакать, так божиться, так кричать «по-латыньски»: «Езус Мария, матка боска Острабрамска, Ченстоховска», что мама заколебалась. — Зачем ребенку ножик? — возмущалась Юзефа. — Что яна — разбойник или что? Да яна ж — маленькая: дайте, ей ножик, яна домой без пальцев придет! Так ножа и не купили. Папа смотрит на часы. — Без четверти девять… Пора! — Да? — говорит вошедший в комнату высокий крепкий старик с густой раздвоенной каштановой бородой, в которой не видно ни одного седого волоса. — Да? Ребенок пойдет в первый раз в жизни учиться без своего дедушки? Очень мерси вам, дорогие дети, но я — не согласный! — Дедушка! — бросаюсь я к нему на шею. — Миленький! Это тот дедушка мой, папин отец, о котором папа рассказывал вчера вечером Ивану Константиновичу и маме. Тот дедушка, который, урезывая себя и бабушку во всем, добился университетского образования для всех своих семерых сыновей. — Дедушка пришел! — прыгаю я вокруг него. — Дедушка пришел, — подхватывает дедушка, — не с пустыми руками: он принес внучке подарок! И на протянутой ко мне широкой дедушкиной ладони я вижу… отличный перочинный ножик! Пока идут препирательства из-за того, нужен девочке ножик или не нужен, и вопли Юзефы, что этим ножиком я обязательно отрежу себе нос, папа снова смотрит на часы. — Без десяти минут девять… Пора! И одновременным движением мама берется за свою шляпку, а Юзефа набрасывает на голову платок. Дедушка тоже берет шляпу и палку. — Куда? — прищуривается папа. — Куда вы все собрались? Вы хотите проводить ее в институт? «За ручку» — да? Может, еще на руках понесете ее? — Так яна ж маленькая… — жалобно возражает Юзефа. — Она уж не маленькая! — твердо отрезает папа. — Она идет учиться. — Яков… — нерешительно начинает мама. Но папа властно перебивает ее. — Она пойдет одна. И — все. — Но она может попасть под извозчика… — Непременно! — гремит папа. — Если она привыкнет, чтобы ее водили «за ручку», она непременно попадет под извозчика в первый же раз, как очутится на улице одна. Она должна учиться быть взрослой. Юзефа с сердцем срывает с головы платок и убегает на кухню. Там она — я знаю — плюнет в сердцах и заплачет: — Нехай дитя зарежется… нехай яво звозчик задавит — им что. Но мне папины слова очень нравятся. — Ты сегодня пойдешь своей дорогой… Понимаешь, Пуговка? И с тобой не будет ни мамы, ни меня, ни дедушки, ни Юзефы, ни мадемуазель Полины — никого. Ты сама будешь отвечать за все, что делаешь. И не держаться за мамину юбку или за Юзефин фартук… Сама надевай ранец! Не помогайте ей! — сердится папа. — Ну вот, молодец! А теперь попрощайся, и в добрый час… Все провожают меня в переднюю. Все, кроме Юзефы, которая заперлась на ключ в кухне и, наверно, горько плачет. Я через дверь прошу ее выйти, но она не откликается. У мамы полные глаза слез. Поль крепко жмет мне руку. — Бонн шанс! (Счастливо!) — говорит она мне и тихо, на ухо, добавляет: — Твой отец сказал тебе все, что я думаю… Как будто он читал мои мысли! Дедушка обнимает меня. — Другой твой дедушка, отец твоей мамы, — он был ученый человек! — он бы тебе сегодня сказал, наверно, какую-нибудь «алгебру»… Или что «птичка божия знает», или что она, бедная, чего-то там не знает… Ну, а я — простой дедушка. И я тебе только скажу: будь здорова, будь умная и будь хорошая. Больше я от тебя ничего не хочу! Я берусь за ручки двери. Сейчас уйду. — Стой, стой! — вдруг спохватывается папа и быстро уводит меня в свой кабинет. — Помни: не врать! Никогда не врать! И, погрозив перед моим носом своим разноцветным «хирургическим» пальцем, с которого уже невозможно смыть следы йода и ляписа, папа поворачивает меня за плечи и подталкивает в переднюю. — Вещи-и-и! — раздается вдруг из кухни рыдающий голос Юзефы. — Вещи берегчи надо: за них деньги плачены, не черепья! Выйдя на улицу и задрав голову, я смотрю наверх, на наши окна. В них — папа, мама, дедушка. В окне нашей комнаты — Поль и Кики, мечущийся в своей клетке. В окне кухни — распухшее от слез лицо Юзефы. Папа многозначительно поднимает свой пестрый указательный палец, это означает: «Помни: не врать!» Я понимающе киваю папе и всем. Юзефа машет мне чайным полотенцем и кричит: — Вещи… И через улицу ходи остру-у-ужненько! Я шагаю по улице. Не спеша, как взрослая. На витрины магазинов не гляжу. Даже на витрину магазина «Детский рай». Даже на окно кондитерской, где выставлен громадный фарфоровый лебедь; вся его спина густо нафарширована множеством крупных конфет в пестрых, бахромчатых бумажках — совсем как панталонцы у кур-брамапуток. Я не смотрю по сторонам, не хочу отвлекаться от моего пути. Но, пройдя мимо кондитерской, я вдруг останавливаюсь. Я чувствую неодолимое желание ненадолго — совсем ненадолго, на две-три минуты! — отклониться от прямой дороги, сделать ма-а-аленький крючок, чтобы повидать одного человека… Мне бы надо свернуть от кондитерской налево, а я иду направо, где сейчас же за углом находится чайный магазин известной фирмы «К. и С. Попов с сыновьями». В этом магазине у меня есть друг, и мне совершенно необходимо показаться ему во всем великолепии коричневого форменного платья, ученического фартука, моего нового ранца с книжками — ну, словом, во всей блеске. Этот друг мой — китаец, настоящий живой китаец Ван Ди-бо. Его привезли в прошлом году специально для рекламы — чтоб люди шли покупать чай и кофе только в этот магазин. И покупатели в самом деле повалили валом. Всякий покупал хоть осьмушку чаю иди кофе, хоть полфунта сахару — и при этом глазел на живого китайца. Так и стоит с тех пор Ван Ди-бо в магазине с утра до вечера, рослый, статный, в вышитом синем китайском халате. Голова у него обрита наголо, только на затылке оставлены волосы, заплетенные в длинную косу ниже поясницы. Ох, мне бы такую! Ван Ди-бо немножко говорит по-русски. Произносит он слова мягко, голос у него добрый, ласковый. И на всех покупателей, входящих в магазин, Ван Ди-бо смотрит умными раскосыми глазами и всем улыбается одинаковой казенно-приветливой улыбкой. Ведь он для того и нанят, чтобы привлекать покупателей! Так же смотрел всегда Ван Ди-бо и на меня, когда я приходила с мамой в магазин. Ван Ди-бо кланялся нам, когда мы входили и выходили, и, пока продавец отвешивал и заворачивал нам товар, — а иногда это делал и сам Ван Ди-бо, он быстро научился этому нехитрому искусству, — Ван Ди-бо ласково улыбался нам, как всем покупателям. Но однажды все неожиданно изменилось. Мама как-то обратила внимание на то, что у Ван Ди-бо очень грустный, совсем больной вид. Он улыбался, как всегда, но улыбка была вымученная, запавшие глаза смотрели страдальчески, лицо было в испарине. Мама спросила Ван Ди-бо, не болен ли он. Опасливо оглядываясь на управляющего магазином, Ван Ди-бо стал торопливо бормотать: — Холесо… Се холесо, мадама… Был уже вечер, торговый день кончался. Управляющий надел пальто, шляпу и ушел из магазина. Тогда Ван Ди-бо оживился — он, видимо, боялся управляющего, — а продавец сказал маме, что у Ван Ди-бо на руке «гугля агромадная — от какая!» Сам Ван Ди-бо мялся, улыбка у него была похожа на гримасу, но показать маме свою больную руку стеснялся. — От-т-то дурень! — сердился на него продавец. — Откусит барыня твою лапу, что ли? Тогда мама предложила, чтобы Ван Ди-бо показал больную руку папе. Это, конечно, была очень правильная мысль, но… Тут встал новый вопрос: каким образом попадет Ван Ди-бо к нам на квартиру? Ему строжайше воспрещено не только выходить на улицу, но даже стоять на пороге магазина, где его может увидеть с улицы всякий и каждый. Управляющий ежедневно повторяет это Ван Ди-бо: «Зачем тебя, китайсу, сюды привезли, а? Чтоб люди на тебя задарма шары пучили? Не-е-ет! Желаете живого китайсу видеть — пожалуйте-с! В магазин-с! Вошли, купили чего ни то, — вот он вам, живой китайса, смотрите в свое удовольствие!» Так и живет Ван Ди-бо в темном чулане позади магазина и никогда не выходит на улицу. Если он сейчас пойдет вместе с нами, немедленно сбегутся сотни людей. Нам и не пробиться будет сквозь эту толпу, и, уж конечно, управляющий магазином завтра же узнает о запретном путешествии Ваи Ди-бо по улицам города. Скандал будет неописуемый! Как же поступить? Все предлагали разные способы сделать Ван Ди-бо неразличимым среди уличных прохожих. Самое умное придумала жена продавца, пришедшая за своим мужем: пусть Ван Ди-бо наденет ее широкое, длинное пальто. — А коса-то? Куда косу девать? — А под мой платок, — спокойно предложила жена продавца. Так и сделали. Ван Ди-бо, в пальто и повязанный платком, совершенно похож на женщину, только очень огромную ростом. — Мадама… — говорил он про самого себя, тыча себя пальцем в грудь. Продавец и его жена остались в магазине дожидаться возвращения Ван Ди-бо, а он ушел с нами. На всякий случай мы вели Ван Ди-бо плохо освещенными переулочками. Все прошло благополучно. Только у самого нашего подъезда Ван Ди-бо споткнулся, платок соскользнул с его головы, и тяжелая черная коса змеей сползла на его спину. — Саляпа — испуганно вздыхал Ван Ди-бо. — Саляпа упаль… Но при женском пальто коса не обращала на себя внимания, да и никого вокруг не было. Мы быстро вошли в наш подъезд. У Ван Ди-бо оказалась на руке флегмона, глубокая, уже назревшая. Он терпел больше недели и молчал — боялся управляющего. Папа вскрыл ему флегмону, выпустил много гноя, перевязал руку. Ван Ди-бо сразу повеселел и без конца кланялся: — Пасиба, докта! Пасиба! Проводить его обратно в магазин вызвалась Поль. Юзефа наотрез отказалась: — Я этих желтых румунцев боюсь! — повторяла она. — Румунцы, я знаю, они такие… Только отвернись, а он тебе голову — ам! — и откусил. С того случая у нас с Ван Ди-бо дружба. Когда я прихожу в магазин, он меня радостно приветствует: — Маленьки докта пилисол! Ну, разве можно не показаться такому другу в торжественный день моей жизни? Нет, пойду. На одну минуточку. Подходя к чайному магазину, гадаю: увижу я Ван Ди-бо или не увижу? Если управляющий уже явился, то я Ван Ди-бо не увижу, потому что при нем Ван Ди-бо не позволено даже приближаться к двери на улицу. На мое счастье, управляющего магазином еще нет, и Ван Ди-бо, примостившись бочком, опасливо выглядывает на улицу, как белка из дупла, готовый юркнуть и скрыться. Увидев меня, Ван Ди-бо, по обыкновению, радостно меня приветствует. — Ван Ди-бо… — говорю я. — Видите? И поворачиваюсь вокруг себя, чтобы Ван Ди-бо мог разглядеть меня со всех сторон. Ван Ди-бо с восхищением цокает языком: — Ой, каласива, каласива! — Я, Ван Ди-бо, учиться иду! — Ну, уциси, уциси! Будеси бальсой докта! Но в эту минуту Ван Ди-бо внезапно ныряет в полумрак магазина. Наверно, его зоркие глаза заметили издали приближение грозного управляющего. Я снова иду налево, по направлению к институту. Останавливаюсь на противоположном тротуаре и пристально разглядываю это длинное, скучное здание. Непроницаемо и отчужденно смотрят на мир окна, закрашенные до половины белой масляной краской. Ни одной раскрытой форточки, ни одного выставленного на солнце цветочного горшка, ни одного выглядывающего из окна человеческого лица… В подъезде — глубокая, темная — ниша, похожая на запавший рот древней бабы-яги. И массивная входная дверь враждебно скалится медным кольцом, как последним уцелевшим зубом. Сейчас перейду улицу. Сейчас войду в подъезд института… Ссылка на следующую главу: Глава вторая. ПЕРВЫЕ ПОДРУГИ, ПЕРВЫЕ УРОКИ |
| Saturday, November 26th, 2016 | |
| 11:57 pm [veniamin] |
Этот яврей вскрывал сейфы в Лос-Аламосе на атомном «Проекте Манхэттен» и стал Нобелевским лауреатом.  Окончание. ССЫЛКА на начало в предыдущем посте. http://lj.rossia.org/community/thelibra ВЗЛОМЩИК ВСТРЕЧАЕТ ВЗЛОМЩИКА. (Ты шнифер, и я шнифер.) Глава из книги Ричарда Фейнман "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!" - Ах! Наверное, хозяйственникам в конце концов удалось открыть его! Я отправился к хозяйственнику: - Я сходил к сейфу, но он уже был открыт. - Ну да, - сказал он, - извините, не успел предупредить Вас. Я послал штатного слесаря просверлить его, но прежде чем сверлить, он попробовал открыть, и ему удалось Так! Первая новость: в Лос-Аламосе теперь есть штатный слесарь. Новость вторая: этот человек знает, как сверлить сейфы, о чем я не имею ни малейшего представления. Третья новость: без дополнительной информации этот человек за несколько минут может открыть сейф. Это настоящий профессионал, у которого есть чему поучиться. С ним я должен познакомиться. Я выяснил, что слесаря взяли после войны, когда бзик насчет секретности у них прошел, чтобы содержать в порядке замки. Оказалось, однако, что открыванием сейфов он загружен не полный день, и он чинил механические калькуляторы, которыми мы пользовались. Во время войны эти калькуляторы чинил я, так что общая тема для разговора у нас была. Я никогда не прибегал к интригам или уловкам, когда нужно было поговорить с кем-нибудь, я просто шел и представлялся. Но встреча с этим человеком была для меня важна, и я знал, что мне придется заслужить его доверие, прежде чем он поделится со мной хоть одним секретом открывания сейфов. Я выяснил, где находится его мастерская, - в нижнем этаже теоротдела, где я работал, - и узнал, что он работает по вечерам, когда останавливают машины. Сначала я просто прошел мимо его двери, направляясь вечером в свой кабинет. И только: просто прошел мимо. Несколько вечеров спустя просто поздоровался. Через некоторое время он заметил, что один и тот же парень, проходя мимо, говорит: "Привет!" или "Добрый вечер!" После нескольких недель этого медленного процесса я заметил, что он возится с калькуляторами, но ничего о них не сказал: было еще не время. Постепенно наше общение несколько расширилось: "Привет! Вижу, работенки у Вас хватает!" - "Да, хватает вот", - или что-нибудь в этом роде. И, наконец, прорыв - он приглашает меня разделить с ним его суп. Теперь все на мази. Теперь мы каждый вечер вместе едим суп. Я касаюсь в разговоре счетных машин, и он сообщает мне, что с этими машинами у него проблема. Он пытается надеть пачку распертых пружинами шестеренок на ось, но у него нет нужного инструмента или он не знает, как это делается, и мучается уже неделю. Я говорю ему, что в войну имел дело с этими машинками, и предлагаю оставить вечером калькулятор мне, чтобы завтра я его посмотрел. - Прекрасно, - говорит он, потому что эти шестеренки у него уже в печенках. На следующий день я рассматриваю проклятую деталь и пытаюсь собрать ее, держа всю пачку шестеренок в руке. Она рассыпается. "Вот что, - говорю я себе, - он проделывал это целую неделю. Я тоже пробую сделать так, и у меня не получается. Это значит, что это делается не так!" Я останавливаюсь и тщательно разглядываю каждую шестеренку, и в каждой замечаю малюсенькую дырочку, просто дырочку. И мне приходит в голову разгадка: я надеваю первую шестеренку и пропускаю через эту дырочку проволоку. Потом надеваю на ось вторую шестеренку и пропускаю проволоку и через нее. Потом следующую, следующую, и так, как бусы на нитку, я с первого раза собрал всю эту деталь, потом вытащил проволоку, и все было в порядке. Следующим вечером я показал ему маленькие дырочки и как я собрал деталь, и после этого мы много говорили о счетных машинках; мы стали хорошими друзьями. А в его мастерской было столько ящиков с полуразобранными замками и деталями сейфов. О, как они были прекрасны! Но я еще и словом не обмолвился о замках и сейфах. И, наконец, пришел день, когда я решился закинуть удочку насчет сейфов: я сообщу ему единственную стоящую вещь, которую я знал о них, - как на открытом сейфе подобрать два последних числа. - Слушай, - сказал я ему, - я вижу, ты работаешь с мозлеровскими сейфами! - Ну да. - Знаешь, эти замки барахло. Когда они открыты, можно подобрать два последних числа... - А ты можешь? - сказал он, проявляя, наконец, некоторый интерес к этой теме. - Могу. - Покажи, - сказал он, и я показал ему, как это делается. Он повернулся ко мне: - А как тебя зовут? До этого момента мы не представлялись друг другу. - Дик Фейнман, - сказал я. - Боже! Так ты Фейнман, - сказал он с благоговением, - Великий взломщик! Я слышал о тебе и давно хотел познакомиться с тобой. Я хочу, чтобы ты научил меня вскрывать сейфы! - Какого черта? Ты сам умеешь открывать сейфы! - Нет, не умею. - Послушай, я знаю про случай с сейфом Капитана, и с тех поря приложил столько стараний, чтобы познакомиться с тобой! А ты говоришь мне, что не умеешь открывать сейфы. - Не умею. - Ладно, ты должен знать, как сверлить их. - Я и этого не знаю. - КАК? - воскликнул я, - этот тип из хозяйственного отдела сказал, что ты собрал свои инструменты и пошел сверлить сейф Капитана. - Поставь себя на мое место. Тебя взяли слесарем. К тебе приходят и говорят, что надо просверлить сейф. Что бы ты стал делать? - Ладно, - согласился я, - я собрал бы свой инструмент и отправился к сейфу. Там я ткнул бы дрелью куда-нибудь в сейф и ж-ж-ж-ж.., принялся сверлить, чтобы меня не выгнали с работы. - Именно так я и собирался сделать. - Но ты же открыл его! Значит, ты знаешь, как вскрывать сейфы. - О да. Я знаю, что замки приходят с завода установленными на 25-0-25 или на 50-25-50, и я подумал: "Чем черт не шутит. Может этот олух не потрудился сменить комбинацию", и вторая комбинация открыла замок. Итак, кое-что я от него все же узнал, - он открывал сейфы тем же чудодейственным способом, что и я. Но занятнее всего все же было то, что этот индюк Капитан получил супер-суперсейф, не постеснялся заставить пыхтеть кучу народа, которая тащила его сейф наверх, а потом даже не позаботился установить свою комбинацию. Я прошелся по кабинетам своего здания, пробуя эти две заводские комбинации, и открыл каждый пятый сейф. Конец ССЫЛКА на всю книгу: можно почитать. http://lib.ru/ANEKDOTY/FEINMAN/fein ---------------------------------------- Вениамин |
| 11:42 pm [veniamin] |
Этот яврей вскрывал сейфы в Лос-Аламосе на атомном «Проекте Манхэттен» и стал Нобелевским лауреатом 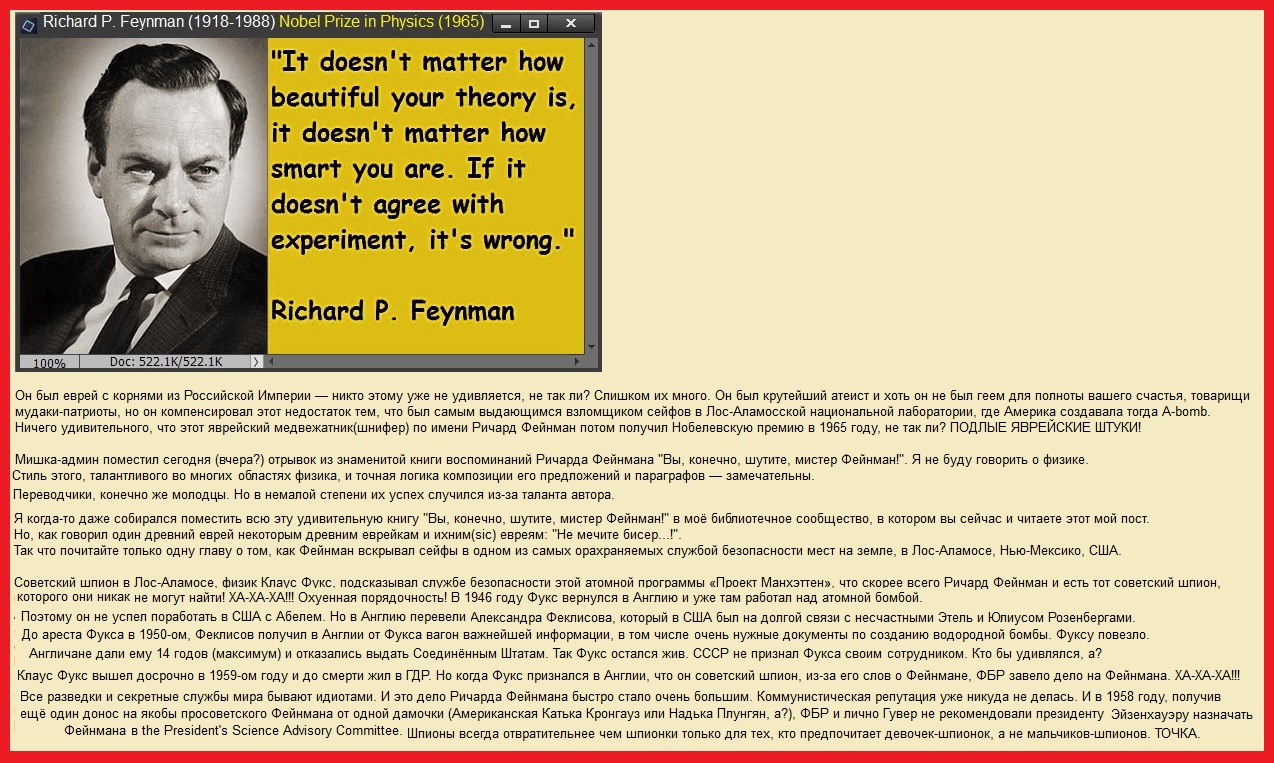 ВЗЛОМЩИК ВСТРЕЧАЕТ ВЗЛОМЩИКА. (Ты шнифер, и я шнифер.) Глава из книги Ричарда Фейнман "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!" Открывать замки научил меня парень по имени Лео Лавателли. Оказалось, что открыть обычный замок с барабанным механизмом, вроде английского замка, - проще пареной репы. Вставленной в отверстие замка отверткой пытаешься повернуть барабан (толкать его приходится сбоку, чтобы отверстие оставалось свободным). Это не удается, потому что внутри имеются цилиндрики, которые нужно поднять как раз на нужную высоту (обычно это делает вставленный в отверстие ключ). Но поскольку замок изготовлен не идеально, одни из цилиндриков начинают препятствовать поворачиванию барабана раньше, чем другие. Если теперь вставить в отверстие маленькую проволочную отмычку (это может быть разогнутая канцелярская скрепка с небольшим закруглением на конце) и подвигать ею взад-вперед, то в конце концов найдешь тот цилиндрик, который больше других держит замок, и поднимешь его на нужную высоту. Замок поддастся, повернувшись на самую малость, а первый цилиндрик останется поднятым, уцепившись своим краем за край своего отверстия. Теперь вся нагрузка приходится на другой цилиндрик, который тоже можно найти с помощью уже описанной процедуры. Так за несколько минут можно поднять все цилиндрики. К сожалению, отвертка часто соскальзывает, и ты слышишь доводящие тебя постепенно до остервенения щелчки: в замке имеются пружинки, возвращающие цилиндрики в исходное положение при вынимании из замка ключа, и ты слышишь их срабатывание при отпускании отвертки (иногда приходится нарочно отпускать отвертку, чтобы выяснить, как обстоит дело: может оказаться, например, что ты пытаешься повернуть барабан не в ту сторону). Иногда это занятие становится похожим на сизифов труд, - ты все время скатываешься к подножию горы. Однако в принципе это дело простое, хотя и требует практики. Ты узнаешь, с какой силой следует поворачивать барабан, - не слишком слабо, чтобы цилиндрики не соскользнули вниз, но и не слишком сильно: они должны иметь возможность подниматься. Пользующиеся замками люди вряд ли отдают себе отчет в том, насколько легко открыть эти замки без ключа. Когда мы начинали работать над атомной бомбой в Лос-Аламосе, из-за спешки неразбериха была жуткой. Все секреты проекта, - все, относящееся к атомной бомбе, - хранились в шкафах с выдвижными ящиками, которые если и запирались, то висячими замками с трехцилиндровыми механизмами, открыть которые мог и ребенок. Для усиления безопасности начальство снабдило все шкафы длинными планками, которые пропускались через ручки всех ящиков шкафа и запирались висячим замком. Как-то раз кто-то меня спросил: "Посмотри на эти новые штуки, которые они установили. Теперь ты сможешь открыть шкаф?" Я осмотрел шкаф с задней стороны и увидел, что сплошной задней стенки у него нет. Через щель у каждого ящика открывался доступ к проволочному стержню, по которому внутри ящика скользили пластины, державшие бумаги в вертикальном положении. Немного повозившись, я сдвинул такую пластину назад и через щель начал вытаскивать из ящика бумаги. "Смотри, - сказал я, - мне не пришлось даже открывать замок!" Атмосфера в Лос-Аламосе была атмосферой добросовестного исполнения долга, и мы считали своей обязанностью указывать на недостатки, которые могли быть устранены. Я много раз говорил о ненадежности шкафов с документами, о том, что стальные планки и висячие замки - сплошная фикция. Чтобы продемонстрировать никчемность этих замков, я всякий раз, когда мне нужен был чей-нибудь отчет, а хозяина не оказывалось на месте, просто заходил в кабинет, открывал шкаф и брал нужную бумагу. Закончив работать с ней, я отдавал ее хозяину со словами: "Спасибо за твой отчет". В ответ я слышал: - А где ты его взял? - У тебя в шкафу. - Но я запер его! - Знаю, что ты его запер. Но замки - барахло! Наконец, пришли шкафы с цифровыми замками фирмы "Мозлер", специализирующейся на изготовлении сейфов. У этих шкафов было три ящика, причем выдвигание верхнего ящика освобождало запор, удерживавший остальные два. Верхний ящик отпирался поворотом лимба влево, вправо, потом снова влево до определенных цифр и, наконец, вправо до цифры 10. В результате этих операций внутри вытягивался запирающий ящик стержень. Чтобы запереть весь шкаф, нужно было сначала задвинуть нижние ящики, затем задвинуть верхний ящик и затем повернуть лимб от цифры 10; при этом стержень возвращался в прежнее положение. Само собой разумеется, что эти новые шкафы были вызовом моей любознательности. Я люблю загадки. Какой-то парень хочет тебя перехитрить, но ты должен найти ответ! Чтобы понять, как работает этот замок, мне пришлось разобрать тот, что стоял в моем кабинете. Работал он следующим образом: на оси один за другим стояли три диска с прорезями в разных местах. Идея заключалась в том, чтобы при установке лимба на 10 фрикционный привод протягивал стержень через щель, образованную прорезями в трех дисках. Для поворачивания дисков служит штырек, торчащий с задней стороны лимба с цифрами, и штырек, установленный на том же радиусе на первом диске. За один поворот лимба ты наверняка захватываешь первый диск. С задней стороны первого диска имеется еще один штырек на том же радиусе, что и штырек на передней стороне второго диска, поэтому за два поворота лимба ты захватишь и второй диск. При дальнейшем вращении лимба штырек на задней стороне второго диска войдет в соприкосновение со штырьком на передней стороне третьего диска, который теперь можно будет повернуть в нужное положение, определяемое первым числом цифровой комбинации. Повернув затем лимб на один оборот в обратную сторону (при этом штырек на втором лимбе захватывается с обратной стороны) и дальше до второго числа, ты устанавливаешь в нужное положение и второй диск. Обращая еще раз направление вращения лимба, ты ставишь в правильное положение первый диск. Теперь все три прорези находятся друг против друга, и поворотом лимба на 10 ты открываешь замок. Так вот, я старался изо всех сил и ничего не мог поделать с этим замком. Я купил пару книжек про известных взломщиков, но толку от них было мало. В начале книжки автор травил несколько историй про фантастические подвиги взломщика, вроде той, где запертая в холодильнике женщина замерзла бы, если б не взломщик, который за две минуты открыл замок, вися вниз головой. Или той, где герой ныряет и под водой открывает сундук с драгоценными мехами или золотыми слитками. Во второй части книги шли советы, как лучше вскрыть сейф вам. Это была туфта вроде того, что "прекрасная идея - попробовать в качестве комбинации цифр дату, потому что куча народу использует для этой цели даты". Или: "подумайте о складе ума владельца сейфа и о том, что он мог использовать в качестве комбинации". Или "секретарши часто боятся забыть комбинацию и записывают ее в одном из следующих мест: на краешке стола, в записной книжке, и...". И дальше мура в том же духе. И все-таки кое-что полезное про обычные сейфы я узнал. У обычных сейфов есть дополнительная ручка, и если ее поворачивать, одновременно вращая цифровой лимб, повторится ситуация, уже описанная применительно к барабанным замкам: проталкиваемый ручкой через прорези (которые не выстроены вдоль одной прямой) дисков стержень одним диском удерживается больше, чем остальными. Поэтому, когда стержень попадает против отверстия в этом диске, раздается еле слышный щелчок, который можно уловить стетоскопом, или наблюдается небольшое уменьшение трения, которое можно ощутить рукой (и стирать кончики пальцев о наждачную бумагу для этого не нужно!). Услышав этот щелчок, вы говорите себе: "Ага, вот число!". Вы не знаете, первое, второе или третье это число, но довольно точное представление об этом сможете получить, сосчитав число оборотов, которые нужно сделать в обе стороны, чтобы снова услышать тот же щелчок. Если оно меньше единицы, то это первый диск, а если немного меньше двух (нужно учитывать толщину штырьков), - второй. Этот полезный трюк срабатывает только с обычными сейфами, имеющими дополнительную ручку, и для меня он был бесполезен. Я перепробовал с этими шкафами всякие "нечестные" способы: пытался, например, не открывая верхнего ящика, открыть защелки нижних проволочным крюком, продетым через отверстия, получающиеся при вывинчивании винтов из передней панели шкафа. Я пробовал вращать лимб очень быстро и затем устанавливать его на 10, надеясь, что благодаря трению диски каким-то образом сами встанут в нужное положение. Я перепробовал все, что пришло мне в голову, и все было напрасно. Я был в отчаянии. Тогда я предпринял небольшое систематическое исследование. Типичной была, например, комбинация 69-32-21. Я задался вопросом, насколько неверной может быть эта комбинация, чтобы она все-таки открывала замок? Если первое число 69, пойдет ли 68? 67? Для тех замков, что были у нас, ответом на эти оба вопроса было да, а вот 66 уже не годилось. Вы могли ошибиться на две единицы в обе стороны. Это означало, что пробовать вам надо было одно число из пяти, так что набирать нужно было нуль, пять, десять, пятнадцать и так далее. Это уменьшало количество чисел на лимбе со ста до двадцати, а количество всех возможных комбинаций трех чисел - с 1 000 000 до 8000. После этого возникал вопрос, сколько времени займет перепробовать 8000 комбинаций? Допустим, я знаю первые два числа комбинации, которую я хочу найти. Пусть это будут числа 69-32, но я не знаю этого, - я получил их как 70-30. Я могу теперь попробовать двадцать третьих чисел, не набирая каждый раз первые два. Допустим теперь, что правильно я знаю только первое число комбинации. Перепробовав на третьем диске двадцать чисел, я сдвину второй диск лишь немного и затем наберу еще двадцать чисел на третьем диске. Я тренировался на своем сейфе все свободное время, и в конце концов я стал проделывать эту процедуру с максимальной скоростью, не забывая при этом, какое число нужно набирать сейчас и не путая первое число. Подобно жонглеру, я выработал у себя абсолютное чувство ритма и последние 400 чисел мог перебрать менее чем за полчаса. Это значило, что открыть сейф я могу максимум за 8 часов при среднем времени 4 часа. В Лос-Аламосе был еще один малый по имени Стейли, который тоже интересовался замками. Время от времени мы встречались и болтали, но ни к чему хорошему так и не пришли. Когда я открыл этот способ открывать замок в среднем за четыре часа, я пошел продемонстрировать его Стейли. Я поднялся в вычислительный отдел, где он работал, и сказал: "Ребята, если вы не возражаете, я воспользуюсь вашим сейфом, чтобы кое-что показать Стейли". Вокруг меня стали собираться сотрудники вычислительного отдела, и один из них закричал: "Эй, все сюда! Фейнман будет учить Стейли взламывать сейфы!" Я не собирался именно открывать сейф; я хотел только показать Стейли способ быстрого перебора последних двух чисел без повторной установки первого. Я начал: "Предположим, что первое число - 40, а в качестве второго числа мы пробуем 15. Крутим назад и вперед до 10, назад на пять больше и вперед до 10 и так далее. Мы перепробовали все возможные третьи числа. Попробуем теперь в качестве второго числа 20. Крутим назад и потом вперед до 10, потом назад на 5 больше и вперед до 10, еще на 5 больше назад и вперед... ЩЕЛК! Моя челюсть отпала: первое и второе числа оказались правильными! Выражения моего лица никто не видел, потому что я стоял ко всем спиной. Стейли выглядел очень удивленным, но мы оба быстро поняли, что произошло. Я торжественно выдвинул верхний ящик и сказал: "Пожалте!" Стейли сказал: "Я понял. Это очень хорошая схема", и мы вышли. Все были ошарашены. Это был полный успех. Теперь я на самом деле приобрел славу взломщика. На это у меня ушло полтора года (я работал и над бомбой, само собой!), но я считал, что с сейфами я справился - в том смысле, что если бы возникла действительная нужда, - кто-нибудь бы пропал или умер, а комбинацию больше никто не знал бы, - я смог бы открыть сейф. После той напыщенной галиматьи, которую о взломщиках писали в книжках, я мог считать это вполне серьезным достижением. С развлечениями у нас в Лос-Аламосе было неважно, нам приходилось развлекать себя самим, и возня с мозлеровским замком моего шкафа была одним из моих развлечений. Как-то раз я сделал интересное наблюдение: когда замок был открыт, ящик выдвинут, а лимб оставлен на 10 (именно в таком состоянии люди оставляли свой шкаф, когда они его открывали и вынимали из него документы), запирающий стержень все еще оставался в нижнем положении. Что же это означало, что стержень был внизу? Это означало, что стержень продет через прорези всех трех дисков, которые, следовательно, все еще стоят друг против друга. Ага... Если теперь лимб слегка повернуть от 10, стержень пойдет вверх, но если сразу вернуть лимб на 10, он снова опустится, потому что канал из прорезей для него все еще сохранен. Если шагами по 5 делений уходить от 10, начиная с некоторого момента стержень перестанет опускаться при возвращении на 10: канал для стержня только что был нарушен. А непосредственно предшествовавшее этому число, при котором стержень все еще опускался, есть последнее число комбинации! Я сообразил, что то же можно проделать и для второго числа: если я знаю последнее число, я могу прокрутить лимб в обратную сторону и снова, шагами по пять делений, постепенно повернуть второй диск в такое положение, при котором стержень перестанет проходить через него. Предшествовавшее этому число будет вторым числом комбинации. Если бы я был очень терпеливым человеком, таким способом я мог бы находить все три числа комбинации, но усилия, которые надо было затратить для нахождения первого числа таким хитроумным способом, намного превосходили те, которые требовались для простого перебора двадцати возможных чисел с двумя уже известными последними числами комбинации (напомню, что такой перебор выполнялся на закрытом замке). Я практиковался и практиковался до тех пор, пока не достиг той степени совершенства, при которой я мог подобрать последние два числа на открытом замке, почти не глядя на лимб. И тогда я стал проделывать такую штуку: зайдя к кому-нибудь в кабинет для обсуждения какой-нибудь физической задачи, я прислонялся к открытому шкафу и как бы в забывчивости крутил его лимб туда-сюда, как это делает человек, во время разговора рассеянно играющий ключами. Иногда я не смотрел на стержень, а просто клал на него палец, чтобы знать, когда он пойдет вверх. Таким способом я выяснил последние два числа на нескольких сейфах. Придя в свой кабинет, я записывал пары последних чисел на бумажке, которую я хранил в замке своего сейфа. Чтобы достать бумажку, я каждый раз разбирал свой замок: это место я считал самым надежным. Слава обо мне вскоре стала распространяться благодаря случаям, вроде такого: кто-нибудь подходит ко мне и говорит: "Слушай, Фейнман, Кристи уехал, а нам нужна бумага из его шкафа. Ты не можешь открыть его?" Если это был шкаф, у которого я не знал последних двух чисел, я обычно просто отвечал: "Простите, ребята, только не сейчас. У меня работы по уши". В обратном случае я говорил: "Ладно, сбегаю только за инструментом". Никакой инструмент мне нужен не был, я шел в свой кабинет, открывал шкаф и смотрел в свою шпаргалку: "Кристи - 35-60". Потом я брал отвертку, шел в кабинет Кристи и закрывал за собой дверь. Ясно, что не всякому следовало знать, как это делается. В кабинете я был один, и обычно я открывал шкаф за несколько минут. Все, что нужно было сделать, - это самое большее 20 раз набрать первое число. После этого я брал журнальчик и минут 15-20 читал его. Не стоило показывать, что дело очень простое: кто-нибудь мог заподозрить, что что-то тут нечисто. Через некоторое время я выходил и сообщал: "Готово!" Люди думали, что я открываю замки безо всякой предварительной информации. После того случая со Стейли я мог держать их в уверенности, что открыть сейф для меня - плевое дело. Никто не догадывался, что я тайком выяснял последние два числа их замков, хотя (а может быть, именно потому что) я делал это постоянно, как картежный шулер, который не расстается с колодой. Часто мне приходилось ездить в Ок-Ридж для проверки мер безопасности на урановом заводе. Время было военное, все спешили, и один раз мне пришлось ехать туда на уикэнд. Было воскресенье, и мы сидели в кабинете генерала. Мы - это сам генерал, глава или вице-президент какой-то компании, пара других шишек и я. Мы собрались для обсуждения отчета, который хранился у генерала в сейфе, - настоящем сейфе, - как вдруг выяснилось, что генерал не знает комбинацию. Ее знала только секретарша, но когда он позвонил ей, оказалось, что она на пикнике за городом. Пока все это выяснялось, я спросил: "Можно мне повозиться с сейфом?" - "Ха-ха, конечно!" И я отправился к сейфу и начал колдовать. Они принялись обсуждать, где достать машину, чтобы попытаться найти секретаршу, и генерал чувствовал себя все более и более виноватым в том, что он задерживает столько народу. А народ терял терпение и начинал уже сердиться на генерала, когда - ЩЕЛК! - сейф открылся. За 10 минут я открыл сейф, в котором были все секреты уранового завода. Все были изумлены. Сейф явно был не очень надежным. Это был ужасный удар: все эти бумаги "только для прочтения", "совершенно секретно" заперты в фирменном сейфе, и вдруг этот тип приходит и открывает его за 10 минут! Разумеется, мне удалось открыть его благодаря моей постоянной привычке выяснять последние два числа комбинации. Будучи в Ок-Ридже за месяц до этого, я был в этом самом кабинете, когда сейф был открыт, и в своей "рассеянной" манере выяснил последние два числа, - своей страсти я предавался постоянно. Хотя я не записал эти числа, смутно я их помнил. Сначала я попробовал 40-15, потом 15-40, но ни одна из этих комбинаций не сработала. Тогда я попробовал 10-45 со всеми первыми числами, и сейф открылся. Аналогичный случай был в другой уикэнд, когда я опять был в Ок-Ридже. Написанный мной отчет должен был быть одобрен полковником и хранился у него в сейфе. Все остальные держали документы в шкафах вроде наших в Лос-Аламосе, но это был полковник, и у него поэтому был гораздо более хитрый, двухдверный сейф с большими ручками, которые вытаскивали из рамы четыре стальных стержня толщиной три четверти дюйма. Раскрылись величественные бронзовые двери, и полковник извлек мой отчет, который он должен был прочесть. Мне не приходилось до этого видеть действительно хороших сейфов, и я попросил полковника: "Пока Вы читаете мой отчет, можно мне осмотреть ваш сейф?" "Валяйте", - сказал он, уверенный, что ничего с сейфом я не сделаю. Я осмотрел заднюю сторону одной из внушительных бронзовых дверей и обнаружил, что цифровой лимб соединен с маленьким замочком, который выглядел точно так же, как и замок моего шкафа в Лос-Аламосе. Та же фирма, тот же маленький стержень, и вся разница в том, что при опускании этого стержня большими ручками на передней дверце можно раздвинуть в стороны толкатели, и система рычагов вытянет стальные запоры толщиной три четверти дюйма. Было очевидно, что система рычагов зависит от того же маленького стержня, который запирал шкафы для документов. Тем временем полковник читал мой отчет. Кончив, он сказал: "Чудесно", спрятал отчет в сейф, взялся за мощные ручки и закрыл величественные бронзовые дверцы. В закрытом виде они выглядели вполне надежно, но я-то знал, что это сплошная иллюзия, потому что все держит тот же замок. Я не смог удержаться от того, чтобы подпустить полковнику шпильку (никогда не был равнодушен к военным с их такими красивыми мундирами), и я сказал: "Глядя, с каким видом Вы закрываете этот сейф, не могу отделаться от ощущения, что Вы считаете его надежным местом". - Конечно. - Это только потому, что гражданские зовут его "сейфом" (я употребил слово "гражданские" для того, чтобы дело выглядело так, словно гражданские надули полковника). Он рассердился: - Что, Вы хотите сказать, что он ненадежный? - Хороший взломщик откроет его за полчаса. - Вы сможете открыть его за полчаса? - Я сказал хороший взломщик. Мне потребуется 45 минут. - Ладно, - сказал он, - жена ждет меня к ужину, но я останусь и буду смотреть за Вами, а Вы будете сидеть здесь, сорок пять минут ковырять эту штуку и не откроете ее!. Он уселся в свое большое кожаное кресло, вытянул ноги на стол и углубился в чтение. Я совершенно спокойно взял стул, перенес его к сейфу и сел перед ним. Изображая некую деятельность, я принялся наугад крутить лимб. Через пять минут (это довольно долгое время, когда вы просто сидите и ждете) полковник потерял терпение: - Ну, как успехи? - Когда имеешь дело со штуками вроде этой, то либо откроешь ее, либо нет. Я рассчитал, что еще минуту или две я могу его помариновать, и всерьез принялся за дело. Через две минуты - ЩЕЛК! - сейф открылся. Морда у полковника вытянулась, а глаза полезли наружу. - Полковник, - сказал я серьезным голосом, - позвольте мне сказать Вам кое-что об этих замках. Когда дверь сейфа или верхний ящик шкафа для документов открыты, очень легко найти комбинацию. Именно это я проделал, когда Вы читали мой отчет, только для того, чтобы продемонстрировать Вам опасность. Вы должны настоять, чтобы во время работы с бумагами все держали закрытыми свои шкафы, потому что в открытом состоянии они очень, очень уязвимы. - Да-да. Я Вас понимаю. Это очень интересно. Теперь мы играли в одной команде. В мой следущий приезд в Ок-Ридж все секретарши и все знавшие, кто я, махали на меня руками: "Сюда не подходите! Сюда не подходите!" Оказалось, что полковник разослал по заводу циркуляр, в котором спрашивалось: "Во время своего последнего визита находился ли мистер Фейнман какое-то время в вашем кабинете, возле вашего кабинета или проходил ли он через ваш кабинет?" Одни ответили да, другие нет. Ответившие утвердительно получили еще один циркуляр: "Пожалуйста, смените комбинацию на вашем сейфе". Это была его реакция: опасность представлял я. Так что из-за меня всем пришлось менять комбинацию. Менять комбинацию и запоминать новую - не подарок, и все они злились на меня и не хотели подпускать меня близко, чтобы им снова не пришлось менять комбинацию. Нечего и говорить о том, что во время работы их шкафы были по-прежнему открыты! В библиотеке Лос-Аламоса были все документы, с которыми нам когда-либо приходилось работать. Это была комната со сплошными бетонными стенами и огромной великолепной дверью, снабженной металлическим штурвалом, наподобие дверей банковских сейфов. Во время войны я пытался изучить ее. Я знал библиотекаршу и упросил ее дать мне возможность немного повозиться с дверью. Я был очарован: это был самый большой замок из виденных мною. Я обнаружил, что не смогу применить к нему мой метод подбора двух последних чисел. Случилось так, что, поворачивая ручку открытой двери, я закрыл замок, и его засов остался торчать наружу, не давая двери закрыться. В таком положении дверь оставалась до тех пор, пока не пришла моя библиотекарша и не открыла замок снова. На этом мое изучение этого замка окончилось. Я не успел понять, как он работает; это оказалось выше моих сил. Однажды летом после войны мне понадобилось закончить одну работу, и из Корнелла, где я в тот год преподавал, я отправился в Лос-Аламос. Во время этой работы мне понадобился мой старый отчет, который хранился в библиотеке. Я пошел в библиотеку, но возле нее расхаживал взад и вперед солдат с винтовкой. Это была суббота, а после войны по субботам библиотека была закрыта. Тогда я вспомнил о занятии своего хорошего приятеля, Фредерика де Хоффмана. Он работал в комиссии по рассекречиванию. После войны военные решили рассекретить некоторые документы, и ему пришлось постоянно бегать в библиотеку: взглянуть на эту бумагу, взглянуть на ту бумагу, проверить это, проверить то, - от всего этого с ума можно было сойти! И он сделал копии всех документов, - всех секретов атомной бомбы, - и забил ими девять шкафов своего кабинета. Я спустился в его кабинет и нашел, что там горит свет. Дело выглядело так, словно кто-то, - его секретарша, наверное, - только что на минуту вышел. Я стал ждать. Ожидая, я принялся крутить лимб замка одного из шкафов (кстати, последних двух чисел сейфов де Хоффмана я не знал: они были установлены после войны, когда я уже уехал из Лос-Аламоса). Я крутил лимб и вспоминал книжки про взломщиков. Я думал: "На меня никогда не производили впечатления описанные в этих книжках трюки, и я никогда не пытался попробовать их. Однако посмотрим, нельзя ли открыть сейф Хоффмана, руководствуясь советами из этих книг". Трюк первый: секретарша. Она боится забыть комбинацию и где-нибудь ее записывает. Я начал искать в местах, упомянутых в книге. Ящик стола оказался заперт, но это был обычный замок из тех, открывать которые меня научил Лео Лавателли. Чпок! Я смотрю с краю - ничего. Потом я просматриваю бумаги секретарши. Нахожу листок, который есть у любой секретарши. На нем тщательно вырисованы буквы греческого алфавита, чтобы их можно было опознать в математических формулах, и против каждой написано ее название. Там же, в верхней части листка, небрежно написано: р = 3,14159. Так, шесть цифр, да еще на кой черт секретарше знать число пи? Ясно, зачем: других причин нет! Отправляюсь к шкафам и набираю на первом: 31-41-59. Не открывает. Пробую 59-41-31. Тоже не годится. 95-14-13. Назад, вперед, вверх тормашками, так, эдак - никак! Запираю ящик стола и уже направляюсь к двери, когда снова приходит в голову из книжки про взломщиков: попробуйте психологический метод. Говорю себе: "Фредди де Хоффман именно такой тип, от которого можно ждать использования математической константы в качестве комбинации для сейфа". Снова возвращаюсь к первому шкафу и набираю 27-18-28 - ЩЕЛК! Сработало! (Основание натуральных логарифмов e = 2,71828 - вторая по важности после пи математическая константа.) Шкафов девять, я открыл первый, но нужной бумаги в нем не было - бумаги шли в алфавитном порядке фамилий авторов. Пробую второй шкаф: 27-18-28 - ЩЕЛК! Открылся той же комбинацией. "Чудесно, - думаю я, - я открыл все секреты атомной бомбы, но если я собираюсь когда-нибудь рассказывать этот анекдот, я должен убедиться, что все комбинации действительно одинаковы!" Некоторые из шкафов были в соседней комнате, я попробовал 27-18-28 на одном из них, и он открылся. Теперь я открыл три сейфа - и все три одной комбинацией. Я сказал себе: "Ну вот, теперь я могу написать книжку про взломщика, которая переплюнет все остальные книжки про взломщиков, потому что в ее начале я опишу, как я открыл сейфы, ценность содержимого которых больше ценности содержимого сейфов, открытых любым другим взломщиком, - кроме жизни, конечно, - и сравнима с ценностью мехов и золотых слитков. Я уделал всех их: открыл сейфы со всеми секретами атомной бомбы - технологией получения плутония, описанием процесса очистки, сведениями о том, сколько нужно материала, как работает бомба, как получаются нейтроны, как устроена бомба, каковы ее размеры, - словом, все, о чем знали в Лос-Аламосе, всю кухню!" Я отправился ко второму шкафу и нашел бумагу, которая мне была нужна. Потом красным жирным карандашом на куске попавшейся под руку желтой бумаги написал: "Позаимствовал документ ЭЛА4312. Фейнман, шнифер". Я положил эту записку сверху бумаг и закрыл шкаф. Затем я вернулся к первому открытому мной шкафу и написал еще одну записку: "Этот открыть было не труднее остальных. Умник" и закрыл и этот шкаф. В последнем шкафу, что был в другой комнате, я написал: "Когда комбинации везде одинаковы, один шкаф открывается не труднее другого. Тот же тип". Я закрыл и этот шкаф и отправился к себе в кабинет писать свой отчет. Вечером я сходил в кафетерий и поужинал. Там же был Фредди де Хоффман. Он сказал, что хочет пойти поработать, и ради смеху я отправился с ним. Он принялся за работу и вскоре пошел в другую комнату за бумагами, на что я не рассчитывал. Случилось так, что сначала он открыл шкаф с моей третьей запиской. Выдвинув ящик, он сразу увидел этот посторонний предмет - ярко-желтый листок с надписью ярко-красным карандашом. Я читал раньше, что при испуге лицо у человека желтеет, но никогда не видел этого сам. Так вот, это сущая правда. Его лицо стало серым, а потом желто-зеленым, - видеть это было действительно страшно. Он взял листок, и рука у него дрожала. "П-п-посмотри на это!" - сказал он с дрожью. В записке было написано: "Когда все комбинации одинаковы, один шкаф открывается не труднее другого. Тот же тип". - Что это значит? - спросил я. - Все к-к-комбинации у моих шкафов од-д-д-инаковые! - выдавил из себя он. - Не слишком удачная идея. - Т-т-теперь я з-з-знаю, - сказал он подавленным голосом. Другим результатом отлива крови от лица является, по-видимому, то, что мозги перестают работать нормально. - Он расписался, он расписался! - твердил Фредди. - Да? - я не ставил своего имени на этой записке. - Да! Это тот самый тип, который пытался проникнуть в здание "Омега"! В течение всей войны и даже после нее по Лос-Аламосу ходил слух, что кто-то пытается проникнуть в здание "Омега". Дело в том, что во время войны проводились эксперименты, целью которых было выяснить, сколько материала нужно для начала цепной реакции. В этих опытах один кусок материала падал мимо другого. В момент пролета должна была начаться реакция, и количество возникших в ней нейтронов нужно было измерить. Падающий кусок пролетал мимо неподвижного настолько быстро, что реакция не должна была успеть развиться, а взрыв произойти. Тем не менее реакция должна была начаться, и по ее ходу можно было сказать, что все в порядке, что скорость реакции такая, какой должна быть, и что расчеты подтверждаются. Очень опасный эксперимент! Естественно, что этот опыт производился не в самом Лос-Аламосе, а на удалении нескольких миль от него, в изолированном каньоне, со всех сторон прикрытом горами. Здание "Омега" было огорожено забором со сторожевыми вышками. Как-то ночью, когда все было спокойно, из окрестных кустов выбежал кролик, ударился о забор и наделал шуму. Часовой начал стрелять. Пришел дежурный лейтенант. Что было сказать часовому, - что это был только кролик? Нет. "Кто-то пытался проникнуть в здание "Омега", но я отпугнул его". И вот де Хоффман стоял бледный и трясущийся и не видел ошибки в своих рассуждениях: тот, кто пытался проникнуть в здание "Омега", стоял рядом с ним! Он спросил меня, что делать. - Посмотри, не пропали ли документы. - Все в порядке. Пропажи я не вижу. Я попытался подвести его к шкафу, из которого я взял свой отчет: - Если все комбинации одинаковы, может быть, он взял что-нибудь из другого шкафа? - Да-да, - сказал он, и мы вернулись в его кабинет и в первом же шкафу нашли мою вторую записку: "Этот открыть было не труднее остальных. Умник." К этому времени Фредди было уже все равно, умник это или тот же тип. Ему было совершенно ясно, что это тот же тип, который пытался проникнуть в здание "Омега". Поэтому заставить его открыть шкаф с моей первой запиской было особенно трудно, и я уже не помню, как мне это удалось. Когда он начал открывать его, я подался в коридор, потому что побаивался, что мне перережут глотку. Само собой разумеется, что он бросился за мной по коридору, но вместо того, чтобы перерезать мне глотку, он едва не задушил меня в объятьях, - так он был рад, что кража атомных секретов оказалась лишь моим розыгрышем. Насколько дней спустя де Хоффман сказал мне, что ему нужны какие-то бумаги из сейфа Керста. Дональд Керст уехал в Иллинойс, и связаться с ним было сложно. "Если ты смог открыть своим психологическим методом все мои сейфы (я рассказал ему, как я это сделал), может быть, сейф Керста ты откроешь так же". К этому времени слух о моих подвигах разошелся по Лос-Аламосу, и несколько человек выразили желание присутствовать при фантастическом представлении, в процессе которого я голыми руками открою сейф Керста. У меня не было оснований настаивать, чтобы меня оставили одного. Я не знал последних двух чисел комбинации Керста, и в психологическом методе мне была нужна помощь людей, которое знали Керста. Все мы отправились в кабинет Керста, и я просмотрел все ящики стола в поисках ключа. Ничего не было. Тогда я спросил: - Какого рода комбинацию мог использовать Керст - математическую константу? - Ну нет, - сказал де Хоффман, - Керст попробовал бы что-нибудь простенькое. Я набрал 10-20-30, потом 20-40-60, 60-40-20, 30-20-10. Ничего. Тогда я спросил: - А дату он мог использовать? - Да, - сказали они, - он как раз такой тип, который возьмет дату. Мы испробовали различные даты: 8-6-45 (когда была взорвана бомба), 86-19-45, эту дату, ту дату, дату начала проекта. Ничего не подходило. К этому времени большинство зевак смоталось: у них не было пороху до конца наблюдать за моей работой, а между тем терпение - единственный инструмент при решении таких задач! Тогда я решил перепробовать все даты с 1900 г. до настоящего времени. Количество этих дат кажется огромным, но на самом деле это не так. Первое число - месяц. Это числа от 1 до 12, которые перекрываются только тремя числами: 10, 5 и 0. Второе число - день, числа от 1 до 31, которые я могу перепробовать с помощью шести чисел. Третье число - год (в то время только сорок семь чисел, которые перекрывались девятью). В результате 8000 комбинаций сводились к 162, которые я мог перебрать за 15-20 минут. К сожалению, я начал с последних месяцев года, потому что когда я нашел комбинацию, она оказалась 0-5-35. Я повернулся к де Хоффману: - Что случилось с Керстом примерно 5 января 1935 г.? - Его дочь родилась в 1936 г., - ответил де Хоффман, - это, наверное, ее день рождения. Теперь я без всяких наводящих указаний открыл два сейфа. Это было кое-что. Теперь я был профессионалом. В то же послевоенное лето хозяйственники вывозили кое-что из списанного государственного имущества, которое предполагалось распродать, а выручку использовать в качестве премии. Одной из этих вещей был сейф Капитана. Все мы знали об этом сейфе. Капитан, прибыв сюда во время войны, решил, что шкафы недостаточно надежны для его секретов, и заказал специальный сейф. Кабинет Капитана помещался на третьем этаже одного из тех собранных на скорую руку деревянных зданий, в которых у всех нас были кабинеты, а заказанный им сейф был железный и тяжелый. Такелажникам пришлось делать деревянные помосты и использовать специальные тали, чтобы поднять его по лестнице. Так как развлечений у нас было немного, все мы собрались поглазеть на великие усилия, с которыми сейф тащили в кабинет Капитана, и похихикать насчет секретов, которые он будет хранить в этом сейфе. Кто-то даже предлагал махнуться сейфами. Словом, об этом сейфе знали все. Вывозивший сейф хозяйственник хотел получить за него премию, однако сначала его надо было опорожнить, а единственными людьми, знавшими его комбинацию, были Капитан, который в это время был на Бикини, и Альварес, который забыл ее. Парень обратился с просьбой ко мне. Я пошел к секретарше капитана и спросил: - Почему бы Вам не позвонить шефу и не узнать у него комбинацию? - Я не хочу его беспокоить. - ответила она. - Слушайте, Вы собираетесь беспокоить меня в течение, может быть, восьми часов. Я не возьмусь за это, если Вы не попытаетесь дозвониться до шефа. - Хорошо, хорошо, - и она взялась за трубку, а я пошел в другую комнату посмотреть на сейф. Он стоял там огромный и железный, а его дверцы были открыты. Я вернулся к секретарше: - Он открыт. - Восхитительно! - зачирикала она, бросая трубку. - Нет, - сказал я, - он уже был открыт. - Ах! Наверное, хозяйственникам в конце концов удалось открыть его! Я отправился к хозяйственнику: - Я сходил к сейфу, но он уже был открыт. - Ну да, - сказал он, - извините, не успел предупредить Вас. Я послал штатного слесаря просверлить его, но прежде чем сверлить, он попробовал открыть, и ему удалось. ССЫЛКА на окончание: http://lj.rossia.org/community/thelibra ----- |