|
|
|
October 3rd, 2011
![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif) demetrious demetrious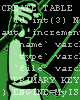 | 04:09 am
Итак, начинаем третью публичную лекцию "Об анархизме свободного рынка и о распространенных на его счет заблуждениях" (надо будет не забыть по итогам какой-нить краткий FAQ составить...)
1) Сначала о собственности, запретах и СССР. Как уже было говорено неоднократно, свобода - это свобода распоряжаться не только собой, но и своей собственностью, и продуктами своего труда. Про то что "общественная собственность" это оксюморон, на практике означающий "ничейная собственность", вам уже выше ответили. Но и "личная собственность" (иллюзорный подвид частной, которую, в отличие от, "по нашим самым справедливым трудовым законам нельзя обменивать и продавать" - этакие именные кандалы раба) все равно имеет титулы владельца, каким бы это вам не казалось бредовым. Если невозможно идентифицировать владельца собственности - это уже и не собственность вовсе. Так что ваш любимый коммунистический аргумент про "личную зубную щетку" здесь не катит - если титулов собственности не существует, то и зубная щетка не может быть личной. И подарить ее тоже нельзя - любому разумному человеку ясно, что дарить можно только то, что является твоим, хоть это стихи, хоть сорванные в поле цветы; в любом случае имеет место быть акт установки титулов собственности, иначе говоря, присваивания. А при дарении так или иначе происходит передача титулов собственности - когда вы мне дарите зубную щетку, она при этом совершенно очевидно перестает быть вашей, как это вы говорите, "личной собственностью" и становится моей. И ежели по-вашему титулы собственности это "бред", и вы можете, "подарив" мне зубную щетку, через 5 минут потребовать её назад - то подобный "коммунизм" очень хорошо описан товарищами Шаламовым и Солженицыным, ибо процветал этот "коммунизм" за воротами ГУЛАГа. А вы говорите, при чем тут СССР... Именно при том, что из отрицания титулов собственности и права их передачи между людьми - только подобная лагерная модель и может вырасти: "Слышь, братан, а ну-ка подари-ка мне свой свитер, у нас же типа все общее..."
2) Теперь к вопросам частной собственности и "экономического принуждения". Разбирать будем опять же, как учит нас наука праксиология, на наглядных примерах.
Итак, случай первый: к вопросу о добровольности сделки. Вводная: вы предлагаете, допустим, услуги переводчика (коммунизм коммунизмом, но работать и тратить свои силы и время за просто так, думается, даже вы не станете:)). Мне же, в свою очередь, необходимо сделать перевод некоего текста. Я обращаюсь к вам, вы называете мне цену своих услуг - я волен согласиться на вашу цену или отказаться и пойти искать другого переводчика. Допустим, я согласился на ваши условия, вы получили свой гонорар, я получил перевод текста, все счастливы. Вопрос: на каком этапе сделки было осуществлено т.н. "экономическое принуждение" и кто из нас кого к чему принудил? Я принудил вас переводить мои тексты? Вы могли отказать мне по праву производителя услуги. Вы принудили меня платить вашу цену? Я мог бы найти переводчика дешевле, или, попыхтев, сам перевести. Или, быть может, "принуждение" состоит в том, что вы хотите делать только то, что хотите и тогда, когда хотите, получая все нахаляву "по потребностям"?:))) Вот честное слово, очень бы хотел посмотреть на практическую реализацию такой коммуны, где каждый работает сколько хочет и когда хочет, и откуда при таком подходе наберется "всем по потребностям"... Но это так, оффтопик.
Теперь случай второй: работа с использованием принадлежащих другому человеку средств производства. Сразу оговорюсь, марксизм с его "трудовой стоимостью" идет лесом, подробные причины вам расписали выше; любой произведенный человеком продукт, пусть даже на чужих средствах производства, очевидно является собственностью производителя. А теперь - к конкретным примерам.
Вариант "а", аренда. Вводная: вам необходимо выполнить какую-либо работу на компьютере (те же переводы, например), но в силу каких-то внешних причин компьютера у вас в данный момент нет (скажем, злобное государство скоммуниздило). Вариант с бескорыстной помощью друзей пока отложим - в большинстве ситуаций в жизни люди ничего никому не должны, имеют различные взгляды, ценности и мировоззрение, и кому оказывать бескорыстную помощь, а кому за вознаграждение - решают сами, лично; так что ситуация "всемирного братства и всеобщей любви" относится к разряду утопических. А работу выполнять вам требуется не в светлом будущем, а уже сегодня. Очевидно, у вас в такой ситуации остается два варианта: либо "экспроприировать" чей-то компьютер в "общественную собственность" (проще говоря, украсть), либо заключить свободный договор с его владельцем. Допустим, вы пришли ко мне и мы заключили такой договор; вы мне деньги, я вам компьютер на оговоренное время. Вопрос: откуда все время вылезает бред о том, что я, якобы, имею какое-то право на произведенный вами на взятом вами же у меня в аренду средстве производства продукт? Не из дремучего марксизма ли? Любой теоретик свободного рынка (да и вообще любой вменяемый человек) скажет, что если за аренду уже уплачено, то владелец арендуемой собственности не имеет права претендовать ни на какой произведенный арендатором на данной собственности продукт.
Вариант "б", наемный труд. Чуть изменим условия вводной: не у меня взяли компьютер в аренду, а я сам нашел программиста, лишенного компьютера, и предложил ему сделку: я ему предоставляю условия для работы, оборудование, заказы; он выполняет эти заказы, а я оплачиваю ему уговоренное вознаграждение. Вопрос: где в данной ситуации "экономическое принуждение" и "присваивание произведенного продукта"? Если б я НИЧЕГО не платил программисту - тогда да, получалось бы, что я краду его труд; а если мы ЗАРАНЕЕ договорились, что он отдает мне произведенный им продукт за УСТРАИВАЮЩУЮ ЕГО плату, и этот взаимный договор ни у кого из нас не вызывает возмущения - где здесь "неравенство" и "эксплуатация"? В том, что программист оказался без компьютера и не имеет возможности работать сам на себя? См. п.1. - если лишить людей права владеть и по своему разумению распоряжаться имуществом, тогда остается только концлагерь, там все общее.
3) Далее, возражая против вышеприведенного примера, вы говорите, что ни один рабочий не сможет ни добиться от владельца средств производства желаемой платы за произведенный продукт, ни купить или взять в аренду средства производства, чтобы работать самому; другими словами, вы утверждаете неизбежность картелизации владельцев средств производства на свободном рынке. Поскольку читать статьи теоретиков (ту же статью профессора Лонга "Корпорации против рынка: чем опасно смешивание") вы не хотите, а своими словами писать в третий раз одно и то же мне уже поднадоело - кину цитату из более "олдового" теоретика прямо сюда:
Мы трудимся в поте лица двенадцать часов в день, и вы предлагаете нам за это несколько грошей. Так получайте же и за ваш труд столько же. Вы не хотите? Вы полагаете, что наш труд в изобилии оплачивается такой платой, а ваш же труд достоин платы в несколько тысяч? Но если бы вы не оценивали ваш труд так высоко и дали бы нам возможность лучше оценить наш, то мы бы в случае надобности выработали больше, чем вы за свои тысячи талеров при одинаковой заработной плате. Вы бы сделались прилежнее, чтобы заработать больше. Если же вы сработаете что-нибудь в десять или сто раз более ценное, чем наша собственная работа, вы и получите в сто раз больше; но и мы тогда сумеем изготовить многое, что вы оплатите нам выше, чем по обыкновенной поденной плате. Мы уже сговоримся друг с другом; если только согласимся в том, что никто ничего не должен дарить другому. Тогда, вероятно, мы дойдем и до того, что даже калекам, больным и старцам будем платить соответствующую плату за то, что они не покидают нас, умирая от голода и нужды, ибо, если мы желаем, чтобы они жили, то должны заплатить за исполнение нашего желания. Я говорю заплатить, то есть не признаю "милостыни". Их жизнь ведь собственность людей, не могущих работать. Если же мы желаем (безразлично по каким соображениям), чтобы они продолжали жить, мы должны заплатить за это, как за покупку; быть может даже, желая видеть вокруг себя приветливые лица, мы захотим, чтобы они жили в полном благоденствии. Одним словом, мы не хотим более получать от вас подачки, но и вам мы ничего более не хотим дарить. Мы тысячелетиями подавали вам милостыню по добровольной... – глупости, тысячелетиями раздавали лепту бедняков и отдавали господам то, что им... – не принадлежит; ну, а теперь откройте ваш кошелек, ибо отныне наш товар чрезвычайно повысится в цене. Мы ничего, совсем ничего не хотим отнять у вас – вы должны только лучше платить за то, что вы хотите иметь. Что же ты имеешь? "Я имею поместье в тысячу десятин". – "А я, твой батрак, отныне буду обрабатывать твою землю только за талер в день". – "Тогда я найму себе другого батрака". – "Ты никого не найдешь, ибо мы, батраки, все будем работать только по такой цене, а если кто-нибудь согласится на твои условия, то горе ему. Вот и служанка: она тоже требует теперь столько же, сколько и мы, и ты не найдешь ни одной служанки, которая пошла бы служить за меньшую плату". – "Но ведь я разорюсь!" – "Не так страшно. Столько же, сколько и мы, ты, конечно, будешь получать, и если не хватит, то мы добавим тебе столько, сколько нужно, чтобы ты мог жить, как мы". – "Но я привык к лучшей жизни". – "Против этого мы ничего не имеем, но это нас не касается, если ты можешь отложить больше, то живи лучше. Но не станем же мы наниматься за меньшую плату только для того, чтобы ты мог благоденствовать". Богач всегда отделывается от бедняка словами: "Что мне за дело до твоей нужды? Пробивайся, как знаешь – это твое дело, а не мое". Так пусть же это будет нашим делом, и мы не позволим богачам лишать нас средств, "которые у нас имеются, чтобы добыть то, чего мы стоим". – "Но вам, необразованным людям, вам вовсе не нужно так много". – "Да, мы берем несколько больше для того, чтобы приобрести образование, в котором нуждаемся". – "Но если вы разорите богачей, кто тогда будет поддерживать искусства и науки?" – "Не беспокоитесь – мы все сообща их "поддержим"; мы сложимся и составим общими силами порядочную сумму; вы, богачи, все равно покупаете теперь только самые бессмысленные книги и слезливых Мадонн или оплачиваете вертлявых танцовщиц". – "О, это ужасное равенство!" – "Нет, почтенный старец, не в равенстве тут дело. Мы только считаемся с тем, какова наша ценность, и если вы обладаете большей ценностью, то и вы больше получите. Мы хотим только справедливой оценки и думаем, что мы сумеем оказаться достойными той цены, которую вы нам будете платить".
Да-да, это не "маркс-энгельс", не "ульянов-ленин" и даже не "крапунин-бакоткин", а самый что ни на есть эгоист-индивидуалист Макс Штирнер. Вы, конечно, можете сказать, что в приведенном отрывке имеет место быть "подсознательная защита коммунистического равенства", но я скорее поддержу автора - не равенство тут, а свободный рыночный торг между владельцем средств производства и рабочим-производителем продукта труда. И если ни одна из сторон не использует насильственных методов (вроде убийства несогласных рабочих или грабежа владельцев средств производства), очевидно, что ни о каком "проявлении власти" говорить нельзя. Ежели кто-то из сторон берется за оружие - владельцы чтобы заставить рабочих работать на своих условиях, или же рабочие, чтобы присвоить собственость владельцев производства - очевидно, что их действия являются насилием и проявлением власти; и на мой взгляд, анархическими такие действия очевидно не являются и поддержка таковых действий анархистами недопустима. Сюда же, кстати, вопрос о капитализме и демократии: мне очевидно, что ни демократия (как система правления, где меньшинство насильно принуждаемо к подчинению решениям большинства) ни существующий слитый с государством и охраняемый силой дубинки капитализм - не могут иметь отношения ни к свободному рынку, ни к анархии; анархизм свободного рынка исключает всякое насилие. Впрочем, вам уже неоднократно в треде об этом говорили, честно, надоедает повторять.
|
Reply
|
|